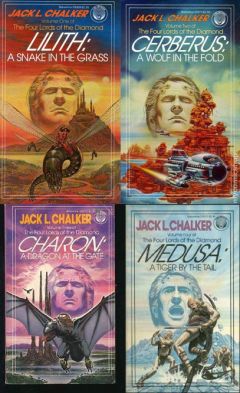На сей раз уйти от удавки Сандыбаеву не удалось: стальная петля беззвучно вошла в недавно заживший шов, перехлестнула спортсмену горло. Через пятнадцать секунд голова Сандыбаева отделилась от туловища - тот, кому было приказано покончить с ним, дело свое знал хорошо.
На Сандыбаева прямо в машине набросили полиэтиленовый мешок, чтобы мертвец не пачкал машину кровью, плотно завязали и оставили лежать в салоне джипа. Через пятнадцать минут мешок выволокли в безлюдном месте, за гаражами неподалеку от Кунцевского лесного массива, и сунули в металлический бак с мусором.
Так закончилась жизнь и карьера человека, который подавал надежды, мечтал стать великим спортсменом, но желания свои не осуществил.
Что же касается способа убийства, который осудили "воры в законе", удавки, то Шахбазов этот осуждающий пункт решил не признавать, - несмотря на все почтение к воровской памятке, способ был надежный, верный и бесшумный... Как пользовались им люди Шахбазова, так и будут пользоваться.
В тот же день Шахбазов приехал к старику Арнаутову, долго звонил в дверь, но дед так и не открыл ему, хотя точно находился дома. Шахбазов вздохнул, достал из кармана небольшое приспособление, похожее на гвоздь, только гвоздь этот был очень длинный и тонкий - много тоньше и длиннее обычного гвоздя, сунул в замочную скважину, произвел несколько нехитрых манипуляций, потом нажал на крохотную кнопку, венчавшую шляпку гвоздя, повернул приспособление влево, и дверь открылась.
Старик Арнаутов лежал на тахте вверх лицом и шумно дышал. Из открытых глаз беспрерывно, превращаясь в мелкие бесконечные ручейки, лились слезы. Он ничего не видел и никого не слышал. Шахбазов склонился над ним.
- Дед!
Арнаутов не среагировал на зов - не шевельнулся, не повел взглядом, не моргнул, и Шахбазов понял: у деда - инсульт. Он оглядел комнату, где лежал Арнаутов, ничего интересного для себя не обнаружил, перебрался в соседнюю. Из ящика стола выгреб толстую пачку бумаг, свернул их в рулон, сверху натянул на рулон резинку. Это были деловые бумаги, касались они в основном того участка, который старик Арнаутов вел в структуре, и ещё самого старика Арнаутова.
Через двадцать минут Шахбазов покинул квартиру. На старика он даже не оглянулся - деду сейчас не мог уже помочь никто, и оставалась ему лишь одна дорога - на Новокунцевское или Митинское кладбище. О том, чтобы оказать Арнаутову помощь или вызвать врача, Шахбазов даже не подумал - это было не в правилах организации. Точно так же поступят и с самим Шахбазовым, если он, подобно деду Арнаутову, завалится на тахту и в больном беспамятстве распахнет слюнявый рот.
Два дня Арнаутов полежит на тахте, на третий, - а может быть, и на четвертый день, - обгаженный испражнениями, дурно воняющий, умрет. Шансов выжить у него нет. Да и не нужна ему жизнь-то... Зачем она деду, потерявшему в этом мире все?
Хоронил Мишу Рогожкина чуть ли не весь город - траурная процессия заняла два с лишним квартала. В большинстве своем это были люди, которые не знали его и вообще никогда не видели, но мученическая смерть водителя-дальнобойщика потрясла их.
Наверное, отсутствие хлеба на столе и одуряющая нищета, внезапно поселившаяся в домах, не действовала так на людей, как гибель кого-нибудь находящегося рядом.
Лица у людей были, как в годы войны, суровыми. Казалось, дай им в руки винтовки - обязательно пойдут на Москву трясти тамошних разжиревших обитателей, и кое-кому из сытых жильцов на Кутузовском проспекте да на Воробьевых горах придется туго.
- С-суки! До чего дошли там, у себя, в своей Москве! Убивают почем зря! - то в одном месте, то в другом вздымался над толпой голос, повисал тревожно в воздухе, и процессия, отзываясь на него, начинала невольно бурлить, словно бы среди людей возникал некий вихрь, над головами взметывались кулаки, люди выпрямлялись враждебно, но потом все стихало, и процессия некоторое время двигалась молча.
Но вот над толпой взлетал очередной, тревожащий душу крик: "Эту московскую мразь, бандитов этих надо сажать на колья!" - и взбудораженная толпа снова начинала волноваться.
Леонтий от слез почти ослеп, он уже не мог плакать - только стонал и слабым движением прижимал к глазам пальцы. Жена его Галина, тоже вся в слезах, все совала Леонтию под язык белую захватанную таблетку и задавленно хлюпала носом:
- Возьми валидол, Ленечка, легче станет!
Но Леонтий не слышал её, лишь крутил головой и стонал.
- Ми-ишка! - иногда сквозь стон прорывались у него сухие глубокие взрыды и тут же тонули в кашле, Леонтий задыхался, кусал до крови губы и вновь заходился в судорожных конвульсиях.
По городским тротуарам мела, свиваясь в тощие жгуты, поземка. Было холодно. Мундштуки труб примерзали к губам музыкантов. В Лиозно не было ни одного человека, который не слышал бы о страшной смерти Михаила Рогожкина.
Настя шла за гробом с напряженным белым лицом и совершенно сухими жесткими глазами - ни одной слезинки из них не выкатилось. На тихий говор, усиливающийся в минуты, когда оркестр делал передышку, она не обращала внимания, на вопросы, адресованные к ней, не отвечала. Она просто ничего не слышала. И ничего не видела. Двигалась за гробом совершенно бесчувственная, словно сомнамбула, - лишь иногда неожиданно складывалась вдвое от болезненного внутреннего укола, стонала, сдавив в щелки невидящие глаза, но в следующий миг брала себя в руки, распрямлялась и так же слепо двигалась дальше.
Одна из баба глянула на неё приметливым глазом, удивилась громко:
- Надо же, ни одной слезинки!
К Насте протолкался сжавшийся, усохший, ставший меньше ростом Стефанович, осторожно взял рукой под локоть, спросил:
- Помощь тебе, Настеха, не нужна?
Но Настя не услышала и его, как и не почувствовала, что он пытается поддержать её, не повернула головы в его сторону - ничем не отозвалась на слова человека, который нашел её Мишку мертвым в овраге.
- А, Настеха?
И вновь Настя не услышала Стефановича, хотя лицо её на этот раз болезненно дернулось, словно бы она попала под удар тока, губы нехорошо заприплясывали.
- Ты не держи слезы в себе, Настеха, не держи, - посоветовал Стефанович, - не рви себе сердце, поплачь...
Лицо у Насти снова окаменело, она продолжала двигаться ровным, размеренным шагом, безжизненно, будто автомат - некая ни на что не реагирующая механическая игрушка, ноги её сами по себе переступали по земле, давили снег, оскользались, если под подошву попадала наледь.
- А что касаемо Мишки - мы за него отомстим, - произнес тем временем Стефанович, окутался серым парком, - те, кто его убил, свое получат. От нас они не уйдут.
И неожиданное дело - Настя очнулась, повернула к нему голову, в светлых глазах её, - хотя почему светлых? это раньше глаза у неё были светлыми, а сейчас Настины глаза стали черными, глубокими, - внезапно что-то ожило. Стефанович, удивленный этим преображением, даже на цыпочки приподнялся, чтобы лучше видеть Настю. Губы её шевельнулись, Стефанович напрягся, надеясь что-нибудь услышать, но ничего не услышал и повторил убежденно, резко, отливая слова, будто пули:
- Мы за Мишку, Настеха, обязательно отомстим!
- Возьмите меня с собой, - чисто и звучно, каким-то проснувшимся голосом попросила Настя.
Стефанович снова усох, сделался маленьким, словно гриб, и отдалился от Насти.
- Это дело, Настеха, не женское.
- Все равно возьмите. Я очень хочу отомстить за Мишу.
- Там ведь... там ведь, - смятенно затоптался, покачиваясь на ходу из стороны в сторону, Стефанович, - там ведь кровь будет...
- Ну и что? Я крови не боюсь. Возьмите. - В голосе Насти послышались надломленные молящие нотки и нечто такое, что словами не определишь, может, ненависть, может, горькая обида, может, боль, может, ещё что-то сложное, очень сложное, и Стефанович, стушевавшись, согласно кивнул.
- Ладно, Настеха, подумаем...
- Возьмите! - вновь сказала Настя. Сказала так, что Стефанович понял: если откажет, то Настя одна поедет в Москву искать убийц Михаила Рогожкина.
Он хотел было отойти от нее, передвинуться к своим подопечным, бредущим в процессии отдельной группой, - к маленькому животастому Шушкевичу, чьи глаза от мороза превратились в настоящие бельма, к несуразному Рашпилю, которого с двух сторон поддерживали водители, поскольку Рашпиль с горя опрокинул в себя сразу два стакана водки и ослаб, но переместиться Стефанович не сумел, Настя цепко ухватила его за руку.
Пальцы у неё оказались железными, Стефановичу сделалось даже больно, она повторила едва слышно, но таким тоном, что у Стефановича по спине побежал нехороший шустрый холодок:
- Я крови не боюсь! Как только соберетесь что-нибудь решать позовите меня!
- Ладно, - пообещал Стефанович, - скоро мы соберем маленький хурал. И тебя, Настеха, позовем. Жди!
Каукалов с Ароновым отбили на Минском шоссе ещё одну фуру болгарский треллер с продырявленным тентом, загруженный спиртным греческим семизвездочным коньяком "Метакса", поддельным джином "Кордова", шведской водкой "Абсолют" нескольких сортов, - Каукалов, проверив документы у седого, смуглого водителя, вгляделся в стекло кабины.