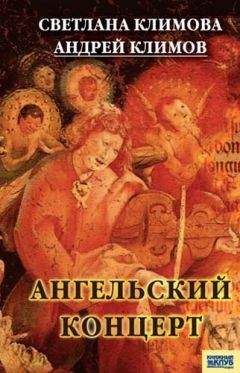— Значит, Интролигатор все-таки успел…
— Ничего он не успел, — возразила Ева. — Говорю тебе — я и без него все поняла.
— Ты?
Выпустив ее руку, я резко ускорил шаг. Потом остановился и подождал, пытаясь успокоиться. Мне ли не помнить: когда я вернулся от Павла Кокорина и сообщил, что книга останется у нас, Ева не обратила на это никакого внимания. Просто проигнорировала. Она ни разу не прикасалась к Библии, которая затем перекочевала к Сабине Новак.
Наконец Ева догнала меня, и я тут же спросил:
— Хорошо, допустим. Каким же это образом?
— Дурачок! — Ева просияла, приподнялась на цыпочки и коснулась теплыми губами мочки моего уха, где болталась крохотная платиновая сережка. — Не кипятись. Пока ты изображал из себя частного детектива, я просто взяла и еще раз прочитала записи Нины Дмитриевны. Результат налицо. Помнишь сцену венчания Эльзы и промокшую Библию? Там же все ясно сказано! Когда я это поняла, оставалось только аккуратно вскрыть переплет. Я окончила сельскую школу, но на уроках труда нас обучали не сажать картошку, а переплетать книги. Это было единственное, что умел наш учитель. Так что я тоже в какой-то степени «интролигатор».
— Ты держала в руках этот документ?
— Ну конечно! Иначе я бы просто умерла от любопытства. Мне ничего не стоило восстановить все как было — понадобилась всего пара часов, не больше. Но все равно я ничего не поняла. Это старое письмо, написанное по-немецки. Почерк неразборчивый, будто писал немощный старик, к тому же страдающий артритом. Там есть и подпись, и дата, но мне ее сейчас не вспомнить.
— Почему ты мне ничего не сказала? — завопил я.
— Я пыталась, — проворковала Ева, — но ты хотел спать…
— Гос-споди! — выдохнул я. — Зачем тогда тебе понадобился Интролигатор?
— Я должна была знать. Понимаешь? Я хотела понять, в чем тут дело и почему за пять веков ни у кого не поднялась рука отделаться от письма. То есть просто его уничтожить. Ради этого стоило ехать, правда?
— Ну да, — буркнул я. — Такая же правда, как и то, что ты сделала все возможное, чтобы Соболь добился своего. Я тебя не виню — никто не мог предвидеть, что все так повернется. А это письмо, кроме всего прочего, еще и мотив преступления. Двух смертей, о которых скоро все забудут. Как с этим быть? Кто тебя тянул за язык, Ева?
— А что, по-твоему, мне еще оставалось? — удивилась она. — Смотреть, как они добивают беспомощного старика?
— Так или иначе, а он умер, — возразил я, если это можно считать возражением, — и все оказалось впустую. Да-да, впустую… Огромный, ничем не оправданный риск, а Соболь все равно получил, что хотел. И как бы я ни убеждал Гаврюшенко, я до сих пор понятия не имею, как добраться до этого типа…
Становилось все холоднее, и нам пришлось ускорить шаг. Теперь Ева шла молча и казалась на удивление спокойной.
— Послушай! — Она вдруг остановилась. — Неужели ты не понимаешь, что эта охота могла продолжаться бесконечно? Они начали с отца Нины Кокориной и закончили Петром Интролигатором. Рано или поздно они добрались бы до Анны, до записей ее родителей, а потом и до нас с тобой. Тебе нравится перспектива пополнить список мертвецов из-за какой-то трухлявой бумажки? Что бы в ней ни было — она того не стоит!
— Может быть. — Помолчав, я добавил: — Откуда мне знать?
Мы пересекли полутемный двор, заваленный палой листвой, гремевшей под ногами, как жесть, и вошли в подъезд своего дома, где вахтер Кузьмич мгновенно стрельнул у меня сигарету. Когда двери лифта за нами закрылись, я закончил фразу:
— Но кто-то же готов заплатить за нее сумасшедшие деньги, верно?
— Я хочу подняться к Сабине, — словно не услышав меня, проговорила Ева. — Она не уснет, пока не убедится, что с нами все в порядке.
— Мне все равно. — Я пожал плечами. Мое раздражение никуда не делось. — К Сабине так к Сабине — какая разница?
На звонок мощным лаем отозвался Степан. Всего несколько часов назад, когда я заявился сюда за Библией, скотчтерьер молчал и даже не вышел в прихожую, зато сейчас он приветствовал нас по полной программе: едва дверь распахнулась, он сунулся мне под ноги, а потом встал на задние лапы, энергично работая хвостом-морковкой, и полез целоваться с Евой.
— Эй, парень, полегче! — сказал я ему, но пес только засопел.
— Слава Богу! — воскликнула Сабина, глядя на нас поверх очков совершенно круглыми сияющими глазами. Ее коротко остриженные полуседые волосы были взлохмачены, между пальцев дымилась сигарета. — Проходите скорее!
Она тут же кинулась ставить чайник, но Ева остановила ее вопросом:
— Получилось?
— Шутите? — усмехнулась пожилая дама. — Егор, что вы до сих пор делаете в прихожей? Снимайте вашу куртку. И хотя по мне что кулинария, что кабалистика, я все-таки попробую вас обоих накормить.
— Потом, — отмахнулась Ева. — Давайте сюда!
— Как, прямо сейчас? — Сабина всплеснула руками, роняя пепел на Степана.
— Когда же еще? — произнесла моя жена.
— Ну что ж… — Наша приятельница освободилась от цветастого фартука, в который уже успела облачиться, опустилась на корточки и выдвинула нижний ящик письменного стола.
То, что она искала, лежало прямо сверху: два пластиковых файла из тех, в которых секретарши в офисах хранят договора, месячные отчеты менеджеров и распечатки кулинарных рецептов. Не вставая, Сабина протянула файлы Еве.
Та мельком взглянула и обернулась ко мне.
— Вот, — сказала она, — возьми!
Я медлил.
— Бери, — повторила Ева с тем непередаваемым выражением, значение которого я до сих пор не раскусил. — Не бойся.
В каждом из прозрачных конвертов находилось по одному листку. В первом — покрытый бурыми разводами, с сальным пятном в левом верхнем углу и слегка обгоревший. Чернила выцвели настолько, что почти сравнялись с тоном бумаги. Второй листок был снежно-белым, с ровными строками лазерной печати.
— Что это? — спросил я.
— Письмо. — Ева опустила глаза, и ее щеки порозовели.
— Копия? — Я впился глазами в побуревший листок, на котором, словно призраки в заброшенной часовне, вели длинные хороводы слова чужого языка. Они и в самом деле выглядели так, будто вот-вот исчезнут в толще бумаги. — Ты все-таки догадалась сделать копию?
— Нет, — сказала Ева. — Копия досталась Соболю. А это — оригинал.
— Детка! — Едва ли я смог бы лучше выразить то, что сейчас чувствовал.
— Ничего особенного, — скромно заметила она. — Проблемы были разве что с бумагой. Но я решила использовать чистую страницу из Библии — ту, что шла сразу после семейной хроники Везелей — Кокориных. Между прочим, на ней обнаружились водяные знаки одной старой немецкой фирмы, про которую Сабина говорит, будто она снабжала бумагой еще типографию Гуттенберга. Ну а найти приличный ксерокс, чтобы передать цвет чернил и фактуру, — пара пустяков.
Единственным, что мне удалось разобрать, оказалась подпись:
— Лютер!.. — ошеломленно пробормотал я.
— Он самый, — подала голос Сабина, о существовании которой я успел начисто забыть. — И написано это примерно за двадцать часов до его кончины… Посмотрела бы я на вас, Егор, если бы вам вздумалось найти в этом городе человека, который хоть что-нибудь смыслит в саксонском диалекте! Только сегодня во второй половине дня я получила перевод. Человек, который его сделал, не из болтливых. Читайте!
Я отложил письмо с такой осторожностью, будто оно было изготовлено из тончайшего фарфора, и взялся за распечатку.
…
Февраля 17 дня года от Рождества Христова 1546 Господину доктору Филиппу Меланхтону в Виттенберге
Милость тебе и защита от Бога, Отца нашего, любезный брат Филипп!
Извещаю о благополучном разрешении тяжбы между графами Альбрехтом и Гебхардтом Мансфельдскими, которые первоначально искали не моего, а твоего посредничества. Но ты был слишком болен, чтобы ехать, а я слишком болен, чтобы надеяться на продление жизни. Оттого я здесь, в Эйслебене, где родился шестьдесят два года назад. Нет числа различным смертям в нашем теле, и нет в нем ничего, кроме смерти!
Горькой желчью отдает моя победа в этом деле, ибо она — всего лишь случайность в те времена, когда распри и хищения церковных имуществ стали правилом, общинами верных правят лукавые стряпчие, а каноническое право, принятое в Риме, вновь вводится по всей Германии. Мы живем в Содоме и Гоморре, ибо если папство было отчасти лучше язычества, так как имело заповеди от Бога, то теперь, освободившись от скверны папизма, мы погрязаем в гнуснейшем язычестве: никто не делает добра, никто не молится, и все воюют со всеми. Наше учение, к распространению которого ты приложил столько сил, должно было служить исправлению людей, но вышло наоборот — и вот мир благодаря ему становится все хуже и хуже. Виной тому, конечно же, дьявол, да только люди теперь — и знатные, и попроще — скупее, безжалостнее, развратнее, — словом, во сто крат хуже, чем при папстве.