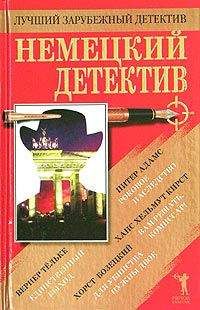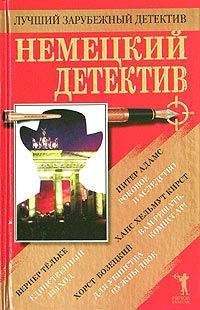— Перестань!
— Явное самоубийство! — Фойерхан рассмеялся и хлопнул рюмку коньяку. Потом поцеловал ее. Рука его бродила по внутренней стороне ее бедра.
— Не спеши…— Ее залила горячая волна возбуждения, но она все-таки продолжала: — Лучше расскажи мне, что было сегодня на фирме, когда ты… А-ах…
— Потом! — Рука скользнула под трусы.
— Ах ты…— Она обняла его и сомлела от легких ласк, с которых начинал он любовную игру. Нервы ее трепетали от ощущений, столь любимых ею и столь давно забытых…
А когда она стала издавать нетерпеливые стоны, он проник в нее, поначалу медленно и нежно, потом дико и эгоистично, и доставил наслаждение, которого ей так давно недоставало. Несбывшиеся сны сразу исполнились, тело, которое еще вчера казалось ей увядшим, вновь стало молодым и полным жизни. Все это компенсировало годы, потерянные в зимнем сне ее замужества. Бесконечная прямая времени свернулась в крохотную точку. Прошлое и будущее исчезли. Остался только этот миг.
Она оставляла его в себе, пока он, измученный и потный, не лишился сил, гладила его и ласкала, пока он не заснул. Чувствуя в себе его семя, думала: самое время для мальчишечки… Она уже не хотела избавиться от Фойерхана. Фойерхан — угроза, но и любовь; Фойерхан — память об утраченной молодости, сама молодость. Так хорошо, все так хорошо… И она расслабилась и погрузилась в глубокий сон.
Проснулись они около половины восьмого, когда у соседей включили телевизор и на весь дом загремели фанфары последних известий. Несколько минут они еще прижимались друг к другу, целовались и ласкались, потом Сузанна отправилась в ванную. Она тихонько напевала — почему-то пришло в голову стихотворение Эльзы Ласкер-Шулер, прочитанное многие годы назад, собственно, только отрывок из него: «В суровых линиях моих побед затанцевала поздняя любовь…»
Поздно, но не слишком. Тело у нее еще крепкое и полное огня. Человек добьется чего угодно, если решится действовать.
Она приготовила ужин, словно они собрались отпраздновать необычайное событие. Знала, что если не хочет потерять человека вроде Фойерхана, должна подумать обо всем, о каждой мелочи. Хорошо, их общее деяние было порукой, что он останется привязан к ней, но его любовь невозможно завоевать и удержать только шантажом.
И старалась она не зря. Фойерхан после каждого глотка ее целовал, и ее лакомства ему очень нравились.
— Ты лучшая кулинарка на свете! Где такое предлагают, грех не задержаться!
Пламя свечей мигало, глаза их сияли, вино золотисто искрилось в бокалах с высокой ножкой. Подняв бокалы, они переглянулись и чокнулись.
— Ах, если бы все так и оставалось навсегда! — нежно произнесла она.
— Или еще немного лучше! — рассмеялся Фойерхан.— Твое здоровье!
Она встала и подошла к проигрывателю. Даже от боли за несостоявшуюся карьеру, которая когда-то жгла ее огнем, остался только кислый осадок, и потому, набрав пластинок, она мимоходом спросила:
— Ты любишь оперу?
— Да, разумеется!
Ей это понравилось.
— А какую?
— Где больше толстых баб,— рассмеялся он.
Бросившись на него, она стащила Фойерхана на пол и они, смеясь и кряхтя, катались по пышному ковру.
Устав, снова молча уселись на мягкой кушетке, прижавшись друг к другу, и размечтались. Из колонок неслась «Патетическая симфония» Чайковского.
— A quoi pensez-vous?[7] — спросила она.
— О вас, мадам Фойерхан.
— Еще есть время… Вот на будущий год…
— Тогда прошу позволить продолжать!
— Ах ты…— Она его поцеловала.
— На помощь, душат! — Он высвободился и повернул к себе ее лицо.— Сузи, поверь мне: все эти годы я на самом деле ждал тебя. Может быть, не всегда сознательно, но… Все остальные — только для того, чтобы забыть про тебя. А что еще мне оставалось? Не мог же я уйти в монастырь? И из меня ничего не вышло, потому что я не мог стать никем без тебя. Будь ты со мной… Ах, merde… Нет, я ведь не дурак, но вот не вышло! Ну да, просто не пошло — и все. У одного меня ничего не получалось.
Если бы Томашевский не перешел дорогу… Нужно было сделать это еще тогда. Я часто представлял, как задушу его или застрелю… И наконец это случилось! Мы с тобой принадлежим друг другу, а тот, кто станет между нами, плохо кончит!
Она погладила его, поцеловала, нежно расчесала пальцами густые волосы, потом пощекотала.
— Мы имели право его убить. Не сделай мы этого, он бы тебя прикончил. Так что это — законная самооборона. И мы ведь рисковали. Еще немного, и он мог нас обнаружить. И что потом? Мог застрелить нас обоих.— Она умолкла, потом совершенно переменившимся голосом спросила: — Скажи, куда ты дел пистолет?
— Ведь я тебе уже говорил…
— Скажи!
— На обратном пути недалеко от моста я его бросил в канал Гогенцоллернов.
— Хорошо…— Она закурила. И снова нежно спросила: — Как прошел первый день на фирме?
— Вполне прилично. Все мне старательно кланяются. Герр управляющий, скажите, герр управляющий, взгляните… Видят, что поезд ушел, и хотят успеть вскочить в последний вагон.
— Как сложился разговор с Паннике?
— Паннике? — Он ухмыльнулся.— Откровенная антипатия с первого взгляда. Между прочим, взаимная. Он с виду очень дружелюбен, но постоянно на меня косится. Ужасно неприятный тип!
— Ты справишься!
— И деньги пришли,— сказал Фойерхан, опустив глаза.
— Перестань! — Она закрыла ему рот.— Со своими деньгами я могу делать, что хочу. И если ты отказался принять то, что я тебе обещала…
— Прошу тебя! Ведь не могу же я… Не могу я брать от тебя деньги — теперь, при таких обстоятельствах…
— О… я так счастлива…— Глаза ее сияли.— Вот я их и перевела на фирму, которой ты руководишь!
— Во всяком случае, корабль остался на плаву.— Тема ему явно была неприятна.— Всего несколько дней, когда фирма смогла работать с крадеными деньгами, совершили чудо. Достаточно преодолеть критическую точку, и все пойдет само по себе.— Он покосился на часы.— Послушай, мне пора. Пойдешь со мной?
— Куда?
— Я ведь тебе сказал. Сегодня день рождения у Айлер-са — тридцатилетие, собирается большая компания. Я просто обязан там быть. Я собираюсь его сделать бухгалтером, когда уйдет Паннике.
— Айлерс? Из торгового отдела?
— Ну да.
— Конечно пойди, это улучшит атмосферу в фирме. Но у меня сегодня нет настроения. Люди по-прежнему так на меня косятся… К тому же я устала.
— Жаль!
— Потом поедешь к матери?
— Да, придется.
— Как-нибудь нужно заехать во Фронау и покосить газон.
— Можно завтра. Пошман для этого слишком благородна, да?
— Она занимается только домом.
— А что дальше? Переедем туда на следующий год или хочешь продать этот претенциозный сарай?
— Еще не знаю.
— Лучше продай; ведь есть и другие дома — дома, в которых меня не держали взаперти.
— Ну ладно, иди уже, а то толку не будет.
— Спешишь от меня избавиться?
Хотя сказал он это в шутку, она тут же ощутила горячий ком где-то в горле. И подумала: «Он все еще мне не доверяет, все еще меня боится, не верит мне, раз я уже решилась на убийство… Первая идея оказалась гениальной, и он теперь боится следующей. Да, как-то раз я над этим задумалась. Он точно угадал. Но… Нет-нет, он дорог мне не только потому, что все обо мне знает».
— Ты же знаешь, что я тебя люблю,— вздохнула она.— И никогда не захочу с тобой расстаться.
Он ее обнял.
— Я бы тебе и не советовал.
Прошло еще немало времени, прежде чем Фойерхан покинул квартиру. Ее это вполне устраивало: теперь она могла спокойно восстановить в памяти картины последних часов и насладиться воспоминаниями. В ее ушах все еще звучал его голос — мягкий, обаятельный, звучный, ласковый, порывистый и мужественный. Она все еще мысленно видела его тело — стройное, с бронзовым загаром, крепкое и неутомимое, гибкое, знакомое насквозь. Она все еще ощущала запах соли и табака, пота, спермы и нафталина. Мать его повсюду держит нафталин; самое время с этим покончить.
Но упоение исчезало тем быстрее, чем судорожнее она пыталась его продлить. Мысли, которые поглощали весь мозг, не удавалось уловить грубой сетью воли. Все вновь и вновь всплывали новые сомнения.
В самом деле она его любит или просто уговаривает себя, чтобы оправдать свое преступление? Ведь если на то пошло, Фойерхан — просто хладнокровный убийца, и кто поручится, что она не станет его очередной жертвой? Не выбрал ли он ночь, в которую она умрет,— разумеется, после свадьбы? Ведь заодно он бы избавился от соучастницы своего преступления.
И хотя двойственность чувств ее ничуть не волновала, она была на грани слез. Нет, что-то в ней самой всегда губит ее возможное счастье. Ведь нет пока ни малейших причин сомневаться в преданности и любви Фойерхана.