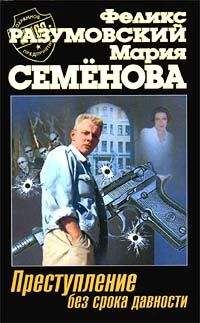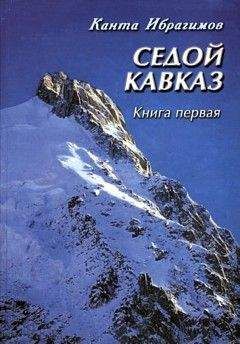Как бы в подтверждение его слов, они вдруг стали стремительно приближаться, и, услышав повелительное: «Ходу!» — рулевой притопил педаль газа. Легкий «стовосьмидесятый», укомплектованный мощным трехлитровым двигателем, взметнул белоснежный шлейф и шмелем полетел по заснеженному Среднему. Фары «тойоты» стали отставать, однако взялся кто-то за господина Лютого по-настоящему. Из бокового проезда вдруг вывернулась туша «шевроле-блейзера», и, мгновенно оценив ситуацию, Скунс негромко приказал:
— Налево, во двор. Быстро!
Голос у замухрышки вдруг стал таким, что ослушаться было невозможно, и нога Павла Семеновича сильно надавила на педаль. Взвизгнули тормоза, и, невзирая на хваленый «мишелин», «мерседес» понесло юзом, пару раз крутануло перед самыми трамвайными фарами и приложило наконец боком к огромному заледенелому сугробу.
— Век мне воли… — Быстро сориентировавшись, господин Лютый пустил заглохший двигатель и, обдирая о стены проезда перламутровый металлик, устремился в облюбованный двор.
— Слава тормозам. — Скунс распахнул дверцу и, заметив, что рулевой достал из тайника под ковриком «стечкина», удивился: — Вы что это, застрелиться решили?
При этом он успел осмотреться и, выбравшись на воздух, потянул Павла Семеновича за собой. Не худенький вообще-то, господин Лютый покинул машину на удивление быстро и мгновение спустя очутился в ближайшей парадной, а на машину из темноты уже мчалась неотвратимая, весящая чуть больше двух килограммов смерть. Пущенная из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, она превратила «мерседес» в пылающий факел, от взрыва вылетели стекла в соседнем доме, и, будто соболезнуя, заорали сигнализациями окрестные авто. Пробудились, почесываясь, в подвалах бомжи, кое-кто из граждан, расплескав, не донес до рта налитое, и даже местные аксакалы в удивлении приникли к окнам. Все довелось пережить им — индустриализацию, интенсификацию, демократизацию, но вот чтобы кого-нибудь глушили противотанковой гранатой в их дворе — такого еще не бывало.
— Красивое зрелище, фантасмагория! — Ничуть не запыхавшийся, Скунс застыл перед входом на чердак и поманил господина Лютого: — Будьте так любезны, отстрелите замок.
«Стечкин» у Павла Семеновича был афганский, АПБ со штатным глушаком, а потому, открыв без особого шума дверь, водитель с пассажиром сразу окунулись в мрачные, пахнущие гадостно потемки. Заорали потревоженные коты, от поднявшейся пыли Лютый принялся чихать и тут же, поскользнувшись на чем-то тягучем, понял совершенно отчетливо, что нынешний вечер не задался.
— Как у негра в жопе в двенадцать ночи да после черного кофе… — Скунс уже добрался до слухового окна и примеривался выйти на крышу. В темноте он, судя по всему, ориентировался свободно. — Сейчас начнется, как у Маршака, — едут пожарные, едет милиция.
Павел Семенович не ответил, ему было не до поэзии. В мерзком полумраке безлунной зимней ночи, с которым даже и не пытались бороться разбитые фонари, он скользил по ржавому железу и с ненавистью слушал, как стоящий у водостока человек в ветровке делится впечатлениями:
— А все-таки Исаакий особенно хорош при подсветке. Вы только посмотрите!
Наконец господин Лютый поднялся с четырех конечностей на две и хотел перевести дыхание, но его уже вели к пожарной лестнице.
— Прошу. Выживать следует в одиночку. — И, неслышно перескочив на соседнюю крышу, Скунс мгновенно растворился в темноте.
«Во дает жизни!» Сплюнув, Павел Семенович тронул заиндевевшее железо, помянул чью-то маму и принялся спускаться по обжигающе холодным, скользким от наледи ступенькам. От самой нижней до сугробов на асфальте было метра три, и, совершив далеко не мягкую посадку, законник поскользнулся и крепко приложился задом о мерзлую землю. «Ну, бля, и непруха». Он дернулся звякнуть поддужному, однако тут же выяснилось, что заодно с «мерседесом» сгорела сотовая труба, и, проклиная мелкую шелупонь, напрочь разбомбившую окрестные таксофоны, Павел Семенович отправился хомутать частника.
Скунс между тем был от него уже далеко и, ритмично дыша морозным воздухом, мчался по направлению к дому. Его общение с господином Лютым несколько затянулось, и, понимая, на что способен невыгулянный Рекс, стайер взбивал снег обутыми в «рибок» ногами и в душе надеялся на лучшее.
Однако тревожился он зря — гордый кавказец чести не уронил и, будучи отпущен на променад, долго хозяина не задержал. Он вовсю шел на поправку, длинная шерсть стала густеть и курчавиться, а массивный костяк сулил обрасти отменными мышцами.
— Объявляю благодарность. — Снегирев затащил питомца наверх, туго набил кроссовки скомканной бумагой, чтобы сохли быстрее, и долго стоял под упругими водяными струями, правда, на цыпочках — уж больно ванна была нехороша.
Все эмоции остались в прошлом, только приятная усталость растекалась по телу, на душе сделалось спокойно и радостно, однако почему блаженство так скоротечно? На кухне вдруг зазвенела посуда, спустя секунду что-то покатилось по полу, и едва Снегирев включил свет, как глаза его узрели нечто необычайное. Мало того что колченогий Пантрик имел привычку пакостить в кастрюли, так нынче он проник в хозяйский холодильник и с важным видом дегустировал содержимое. С разносолами у Новомосковских было нынче негусто, и, остановившись на колбасе «одесской», хвостатый паразит с энтузиазмом поволок ее куда-то в кухонные недра, но был на полпути остановлен.
— Что же ты делаешь, гад, ведь кастрируют! — Снегирев вырвал у хищника добычу, сунул спасенное в открытый холодильник, как следует хлопнул дверцей и потянул из тети-фириной «Оки» купленную намедни рыбищу. — Ща будет тебе натурпродукт, веселись.
Расчленив морского окуня, он осчастливил Пантрика головной частью, понюхав, добавил перышки и, щелкнув выключателем, отправился к себе.
…Неподалеку от берега Евфрата среди благоухающего царства роз укрылся храм богини Милидаты, чье имя означало «родящая». Близился праздник «доброй матери», и разные люди потянулись под сень священных деревьев, где расположились тенистые аллеи и многоярусные клумбы. Были здесь и красивые безбородые юноши, натиравшиеся для удаления волос особыми маслами, и невинные, едва достигшие зрелости дочери Вавилона, готовые продать свою девственность первому встречному и положить заработанное на алтарь Милидаты. Знатные дамы, гордые своим богатством и положением, не желали мешаться с простым людом и приезжали в закрытых колесницах. Однако проходило немного времени, и они, вскрикивая, словно береговые шлюхи, тоже отдавали свои тела во славу Милидаты. Жрецы храма держались достойно — они несли длинные шесты с огромными приапами на концах и вели особым образом дрессированных собак, которых можно было купить или взять на время за малые деньги для самого постыдного блуда. «Плата собаки» тоже ложилась на алтарь всесильной богини. Все вокруг было залито светом факелов, отовсюду слышался грохот кимвалов и шушанудуров, а над разноликим скопищем висели плотные запахи вина, благовоний и «небесной радости» — гиля, дымившегося в бронзовых курительницах.
Начальник телохранителей царя Вавилонского Навузардан, одетый просто, с бородой завитой и надушенной, ничем, кроме роста, из праздничной толпы не выделялся и вел себя подобно большинству верующих. Опьянев от вина и мерных ударов тамбуров, он поначалу завернул в цветастую палатку, стоявшую у входа в храм Милидаты, где жрица богини, утопая в клубах благовоний, готовила афродизиак. Одежда ее состояла из прозрачных шелковых лент, и, протянув Навузардану чашу с любовным зельем, она начала разматывать верхнюю полоску материи. Начальник вавилонский выпил залпом бурлящий напиток и запустил руку в кожаный мешок, где находилась малая толика из награбленного им в походах:
— Я призываю богиню Милидату...
Неожиданно Снегирев почувствовал, что глаза его закрываются. Усталость прожитого дня стремительно навалилась на него, дыхание сделалось глубоким, и, отложив амурные подвиги Навузардана на потом, он крепко, без сновидений, заснул.
Пробивать правильную «гуту», чтобы была она не «голым вассером» и не «мякиной», от которой будет трясти, пока не перекинешься, совсем непросто. И естественно, надо въезжать, для кого бурзаешь: одно дело — своих раскумарить, тут лажу гнать стремно, могут быть неприятности. Совсем другой расклад, если на продажу, — тут со стакана «кепки» можно задвинуть аж четвертак «корма». Ничего, схавают и такое, не бояре.
Сергей Иванович Жилин, по кличке Ломоносов, не спеша «осоживал кепку» — пропитывал раствором соды маковую соломку. Это — основа всего процесса, можно сказать фундамент, так что торопиться не следовало. Да и вообще, сколько неприятностей случается в этом мире из-за суеты и неосмотрительности. Взять хотя бы самого Сергея Ивановича, чей жизненный путь был извилист, словно полет летучей мыши, и спрашивается почему? Да все из-за проклятой суеты, из-за стремления объять необъятное, а в результате — две ломки, три весны на нарах, не говоря о пошатнувшемся здоровье. Это уже после зоны Ломоносов сделался человеком основательным, с ширивом завязал, а на жизнь стал смотреть со спокойным цинизмом прагматика.