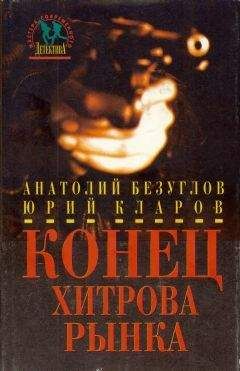— Закурить?
Рукой, в которой был маузер, Виктор начал похлопывать себя по карману. Затем положил маузер на стол и достал кисет.
— Но вы же не курите? — растерянно спросил он.
— Правильно, — подтвердил Савельев. — А теперь спрячьте оружие и пошли.
Мы прошли через притихшую ночлежку и спустились по лестнице. Красногвардейцы оттаскивали труп к одинокому столбу фонаря, который слабо светил сквозь густую кисею падающего снега.
С разных концов площади стекались к фонарю группами и поодиночке оборванные люди.
Солдат в ушанке угрожающе клацал затвором и тонко кричал:
— Куда?! Стрелять будем!
— Где Арцыгов? — спросил у него Виктор.
— А я знаю? — зло огрызнулся тот и снова закричал: — Куда? Куда?!
Откуда-то неожиданно вынырнул Арцыгов, разгоряченный, в лихо заломленной на затылок мерлушковой папахе.
— Поторапливайся, ребята, поторапливайся! — Увидев нас, он весело оскалил зубы и подмигнул: — Смыться хотел!
— Не лгите, — устало сказал Горев. — Я все видел. Вы просто самовольно дали приказ о расстреле.
Щеку Арцыгова дернула судорога.
— А если и так, что тогда? Все равно бы его шлепнули, не здесь, так там. Теперь не старый режим: с подонками церемониться некогда. Революция!
— Ты, сволочь, на революцию не ссылайся! Революция не такими и не для таких делалась! — Виктор схватил Арцыгова за борта полушубка.
Тот вырвался, выхватил наган.
— Осади, шкет!
Вмешался Горев:
— Хватит. Разговор продолжим завтра. Обо всем этом как ответственный за операцию я доложу начальнику уголовного розыска.
— Хоть самому всевышнему! — оскалился Арцыгов и крикнул красногвардейцам, прислушивавшимся к разговору: — Грузи на сани! А по тем, кто подойдет ближе, чем на десять шагов, стрелять без предупреждения.
— Свобода… — вздохнул Горев и начал непослушными пальцами застегивать шубу.
VIIIТузика в Орловской больнице не приняли. Старый фельдшер с прокуренными седыми усами только разводил руками.
— Можете расстреливать, товарищи, а мест нет. Куда я его положу? В морг, что ли?
Фельдшер не врал. Больница была переполнена. Люди лежали не только в палатах и коридорах, но и на полу приемного покоя, в кабинете главного врача, вестибюле. Больные бредили, стонали, рвали ногтями грудь, всхлипывали.
Поругавшись для порядка, Виктор наконец сказал:
— Тогда хоть посмотрите его, лекарство какое дайте или что…
— Вот это можно, — обрадовался фельдшер. — Это я с превеликим удовольствием.
Он пощупал у мальчика пульс, поставил градусник и положил на столик пакетик с порошками. Потом на минуту задумался и достал из шкафчика бутылку с микстурой.
— Так что у него?
— Может, испанка, а может, иная напасть. Разве угадаешь?
— Как же вы лекарства даете, не зная от чего? — вспыхнул Виктор.
Фельдшер удивленно посмотрел на него водянистыми старческими глазами.
— То есть?
— «То есть, то есть», — передразнил Виктор. — А если его эти порошки в могилу сведут?
Фельдшер обиделся.
— Вы меня, молодой человек, не учите-с, не доросли. Да-с, — брызгая слюной и топорща усы, говорил он. — Вы еще, извините за выражение, пеленки у своей матушки мочили, когда я людские страдания облегчал-с. Одному богу известно, кто чем болен, а лекарства между тем всегда выписывают. Такой порядок. Да-с. И если я эти лекарства даю, значит, знаю, что они безопасны и никому никогда вреда не приносили…
— А пользу?
Фельдшер, видимо, потеряв от возмущения дар речи, свирепо засопел и повернулся к нам спиной.
— Оставь его, — сказал я, чувствуя, что Виктор с минуты на минуту может вспылить. — Пошли.
Извозчика мы не нашли, пришлось Тузика нести на руках. Виктор его держал за плечи, я — за ноги. У Покровских ворот нас остановил патруль.
Ругаясь сквозь зубы, Виктор передал мне Тузика и достал удостоверение.
— Служба, — смущенно сказал пожилой красногвардеец, возвращая удостоверение. — Что с мальчонкой? Сыпняк?
— Нет, кажется, испанка.
— Подсобить?
Только тут я почувствовал, как устал за эту ночь. Руки у меня онемели, колени дрожали, спина стала совсем мокрой от пота.
— Пожалуйста, папаша, — поспешно сказал я, опасаясь, что Виктор откажется. — Здесь уже рядом. Парнишка не тяжелый, только мы его закутали, чтоб не простыл…
— Тяжесть не велика, грыжу не заработаю…
Красногвардеец передал винтовку своему напарнику, в последний раз жадно затянулся цигаркой, выплюнул ее в снег.
— Давайте! Один управлюсь.
Когда мы уже входили в подъезд моего дома, он, будто невзначай, спросил:
— Это ваши на Хитровке стреляли?
— Нет, — быстро ответил Виктор.
— А я думал, ваши… Когда на санях убитого везли, почудилось мне, что Сенька Худяков в охране, с нашей фабрики парень, в розыске теперь… Значит, не вы?
— Нет.
— Может, анархисты шалили?
— Может быть. Не видели.
— Да, дела… А Сеньку Худякова знаешь?
— Не припомню, народу у нас много.
— Про то слышал, — подтвердил словоохотливый красногвардеец. — Учреждение сурьезное. И то сказать, жулья невпроворот. Так и шныряют, так и шныряют. Всяка вошь из щели вылазит, чтоб свою долю кровушки получить. Дежуришь ночью — только и слышишь: «Караул, грабят!» Не знаешь, в какую сторону и кидаться. Намедни барышню раздели. Что гады сделали — сережки у ей в ушах были, так вместе с мясом вырвали. Сидит голая в сугробе да скулит, как кутенок, а кровь так и хлещет…
— Ну, пришли, спасибо, — с видимым облегчением сказал Виктор, когда мы остановились у моей двери.
В Москве проходило уплотнение, и ко мне вселили семью доктора Тушнова. Опасаясь воров, доктор врезал в дверь несколько новых замков, которые можно было открыть — и то не всегда успешно — только изнутри, зная секрет сложной механики.
Я позвонил — молчание. Еще раз.
— Так мы всю ночь под дверью простоим, — раздраженно сказал Виктор. — Ты не миндальничай, стучи кулаком! Разоспались!
Я последовал его совету, но к двери по-прежнему никто не подходил.
— Сильны спать! — почти с восхищением сказал второй красногвардеец, который молчал всю дорогу. — Ну и буржуи! Запросто всю революцию проспят. Продерут глаза — ан уже коммунизм!
— Не спят они, просто отпереть боятся. Дай-кась я! — сказал разговорчивый красногвардеец. Он опустил Тузика на лестничную площадку и грохнул в дверь прикладом.
— Эй, вы, открывайте!
— У меня оружие, я буду отстреливаться, — послышался из-за двери дрожащий голос доктора.
— Я тебе стрельну! — рявкнул красногвардеец.
— Я брал призы за меткость, — таким же бесцветным голосом прошелестел доктор.
С перепугу доктор действительно мог выстрелить.
— Борис Николаевич, — вмешался я, стараясь говорить как можно спокойнее и убедительнее, — пожалуйста, не волнуйтесь. Никто на вас не собирается нападать. Это же я и Сухоруков, тот Сухоруков, который в нашем дворе живет. Мы пришли ночевать. Вы узнаете мой голос, правда?
— Голос можно изменить.
— Но кому это нужно?
— Грабителям, — последовал обоснованный ответ.
Дипломатические переговоры через дверь продолжались минут десять. Наконец доктор, не снимая цепочки, приоткрыл дверь и только убедившись, что мы именно те, за кого себя выдаем, впустил нас в прихожую.
В моей комнате, загроможденной мебелью, было холодно и сыро: дома я бывал редко и топил свою «пчелку» от случая к случаю.
Мы уложили Тузика на большую двухспальную кровать карельской березы, разжав плотно стиснутые зубы, влили в рот немного микстуры. Тузик дернулся, перевернулся на бок, что-то забормотал.
Виктору я постелил на диване, себе на кушетке. Вместе растопили печурку. Я смертельно устал, голова была тяжелой, мутной. Передо мной стояло желтое, с заострившимся носом лицо Лесли, оскаленный в застывшей полуулыбке рот, и я видел кружащиеся снежинки, которые падали на его щеки и не таяли. А глаза у Лесли были открыты, и снежинки, попадая на них, тоже не таяли. Интересно, сколько Лесли было лет? Наверное, не больше двадцати пяти. И недаром его прозвали Красивым. Действительно, красивый, очень красивый. Наверно, не одной гимназистке голову вскружил… Хотя при чем тут гимназистки? Ведь он не учился в гимназии. А может быть, учился? Что за ерунда в голову лезет?…
Я приподнялся на локте и закурил.
— Не спишь? — спросил Виктор.
— Не спится.
— Мне тоже. Все об этом деле думаю. Сволочь все-таки Арцыгов. Ему что вошь, что человек. Раз — и нету. За что он его убил?
— Ну, бандит все-таки…
— А бандит не человек? Я позавчера одного налетчика допрашивал… «Что, — говорит, — думаешь, я налетчиком родился? Я, — говорит, — может, поэтом родился. Я, — говорит, — может, почище Пушкина стихи складываю». Ну, насчет Пушкина он вгорячах приврал, а стихи действительно здорово написаны. Там мне одна строка запомнилась: «Необычное обычно только в сказках и стихах…» Здорово?