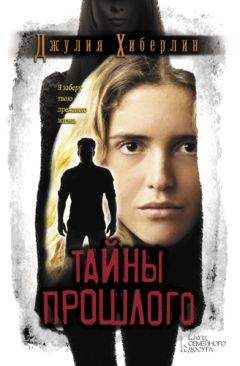— Чикаго, — пробормотал он.
Я резко выдернула руку из пакета.
— Что ты сказал? Да прекрати жать на кнопку! Джек!
Слишком поздно. Джек уже уплывал в морфиновую спячку.
Чикаго.
Это слово меня не отпустит.
Около четырех часов я выехала на хайвей, отматывая мили в направлении Сэди, и мое колено пульсировало в отвратном ритме, в унисон с нарастающей болью в затылке. Каждые пару минут я поглядывала в зеркало заднего вида. Никто меня не преследовал.
Кожу на голове все еще жгло. В зеркале больничного туалета я разглядела покрасневшее и опухшее место на левом виске — раненое эго беспокоило меня куда сильнее колена.
Пухлощекий новичок-полицейский, Джеффри Как-то-там, был настолько мил, что забрал папин пикап из гаража и подогнал его к больнице. Оставил на стоянке у входа, довез меня к нему на коляске, помог забраться, раз шесть спросил, в порядке ли я и смогу ли вести машину, — сделал все что мог, разве что напрямую не попросил мой номер. В любой другой день я бы заинтересовалась. Кавалерия в жизни не помешает.
Обычно я любила водить: безлюдные равнины Техаса, редкие ограды и стада коров, безбрежное синее небо — от них я чувствовала себя свободней, чем после четырех рюмок текилы, и ехала домой в облачке уютной расслабленности. Сегодня я мчалась в туче раздражения.
Я должна рассказать Сэди о письме. Почему я раньше этого не сделала? Я размышляла об этом все сорок минут знакомой дороги в Пондер, маленький городок, граничащий с нашим семейным ранчо, и меня радовало, что эти мысли наконец вытеснили из головы то, что беспокоило меня больше всего: Энтони Марчетти, мясник, сидящий сейчас в тюремной камере Форт-Ворса. Не то чтобы я хоть на миг поверила, что он как-то со мной связан, но последние события намекали, что кто-то, и, возможно, не один, ошибочно в это верит… И это плохо для моей семьи, особенно если сцена в гараже имеет к этому отношение.
Возможно, Джек Смит стал обычным свидетелем, репортером, который просто ошивался у моего пикапа и случайно им помешал. Возможно, их настоящей целью была я. Но почему? До сих пор единственной странностью в моей жизни было письмо Розалины, но оно не несло никакой угрозы. Это был просто взрыв эмоций горюющей матери.
Нет, Джек явно замешан. Ну какой репортер станет носить резервный пистолет? А для основного оружия кобура на лодыжке чертовски неудобна.
Джек сказал: «Чикаго».
Розалина жила в Чикаго.
Энтони Марчетти стер с лица земли целую семью.
В Чикаго.
Все это было странно и почти невероятно. Я свернула на Ай-35 и газанула. Пару минут спустя я оказалась в деловом районе Пондера, что, конечно, является шуткой.
Мой родной город испокон веков жил за счет двух вещей: «Стейкхауса» и призраков Бонни и Клайда. В «Стейкхаусе» Пондера с 1948 года подавали жареные бычьи яйца — приличия ради именуемые в меню как «закуска из говядины» — и вполне приличные стейки. А Бонни и Клайд ухитрились ограбить банк Пондера.
Годы спустя, когда Уоррен Битти и Фэй Данауэй показались тут для съемок фильма, они застали ту же картину — пыльный участок дороги, пара водонапорных башен, три церкви и железнодорожные пути посредине. Хотела бы я, чтобы Пондер получил свое имя за поэтичные закаты, названные на городском сайте «лучшими в мире». Но город назвали очень, очень давно, в другом веке, в честь В.А. Пондера, крупного землевладельца. В Техасе земля — это сила. Мне ли не знать. Моей семье принадлежит уйма акров.
Я свернула на главную улицу, Бэйли-стрит, развернулась на полупустой парковке у «Стейкхауса», и мой желудок заурчал в предвкушении заказа навынос — я позвонила и заказала три обеда с куриными стейками. Ранний ужин для Сэди, Мэдди и меня, как я и обещала.
«Стейкхаус» в Пондере был единственным местом в мире, где ради порции печеной картошки требовался предварительный заказ. Но стоило запустить зубы в их картошечку, идеально приправленную, идеально пропеченную четко при двухстах шестидесяти градусах в огромной духовке, и становилось легче легкого запомнить, что заказывать ее нужно за день.
Но сегодня я настроилась на жареное.
Дверь-ширма хлопнула за моей спиной, и я увидела в затененном углу Бэтти Лу, принимающую заказ у стайки древних леди в соломенных шляпках с разноцветными лентами. Стайка спорила по поводу трех долларов наценки в меню комплексных обедов. Бэтти Лу обещала им скидку для престарелых горожан и одновременно поправляла покосившуюся рамку с фотографией и автографом Фэй Данауэй на стене из грубо отесанного камня.
— А филе у вас нежное? — спросила у нее одна из женщин, тыча пальцем в самый дешевый пункт меню.
— Никто никогда не жаловался, что не может прожевать, — прорычала Бэтти Лу. Самый вежливый ответ из ее арсенала. — Простите, мадам, я на секундочку. — Она махнула мне рукой в сторону кассы.
Бэтти Лу, крашеная блондинка с алой помадой и в ковбойских джинсах, совершенно не выглядела ровесницей своих престарелых посетительниц, хотя и была ею.
Она быстро оглядела меня, отметила спутанные волосы, состояние моих джинсов и колена, обмотанного кучей бинтов. От нее ничего не укрылось. Впрочем, за последние двадцать лет она не раз видела меня в куда худшем состоянии — иногда после падения с быка на родео, иногда в облаке запашка, источником которого может быть лишь то, что выскочило из-под лошадиного хвоста.
Мы с Бэтти Лу прошли обычный рутинный ритуал: она протянула мне три горячих, экологически небезопасных контейнера из пенополистирола, в которых таились тысячи потрясающе вкусных калорий, а я протянула ей сорок пять долларов, куда входили и щедрые чаевые.
— Как твоя ма? — спросила она. — Передай, что я по ней скучаю. Последний кусок шоколадного пирога я завернула для Мэдди, так что не смей запускать в него вилку.
— Спасибо, Бэтти Лу. Мама все так же. Я передам ей привет. — Тоже часть ритуала. Мне нравилось, что для Бэтти Лу эти простые слова еще не потеряли смысла.
Пять минут спустя, жадно поедая по пути картошку-фри из верхнего контейнера, я вернулась на дорогу через город, проехала Дженьюари-лейн (странно, что в честь других месяцев улицы не называли), продуктовый магазин, затем ветеринарную клинику. Через несколько минут я свернула на дорогу, которая быстро видоизменилась: вместо гладкого черного асфальта под колесами оказались предательски плюющийся гравий и клубящаяся пыль. По ней я тряслась, пока вдалеке не показалось наше семейное ранчо, дом на вершине холма под защитой раскидистых дубов. Но, чтобы до него добраться, мне предстояло одолеть еще более неровную грунтовую дорогу, вьющуюся между полей, на которых прошло наше детство.
Я притормозила у двойного трейлера Сэди, который она любовно украсила разноцветными завитками с помощью краски из баллончиков. Свой временный дом Сэди поставила на потрясающе красивом участке земли. Тут здорово было наблюдать закаты, а еще отсюда открывался вид на зацементированный пруд, который сейчас сиял ярко-оранжевым, словно в него налили фанты.
Я впервые осознала, насколько Сэди и Мэдди уязвимы здесь, особенно по ночам, на этом открытом участке земли. Мишени.
Я вышла из пикапа и остановилась. Новый образец скульптуры возвышался надо мной фута на три — витая башня из разноцветных банок из-под колы и пива, полосок ржавой жести и бутылочных пробок, прикрепленных к старому столбу изгороди. Древняя кукла, которую я помнила еще по детской коллекции Сэди, венчала эту штуку, прикрученная проволокой. Кажется, куклу звали Молли. Ее светлые волосы и желтое платье видали и лучшие дни. А вот пустые голубые глаза оставались такими же жуткими.
Но, не считая куклы, скульптура была странно очаровательна, словно своеобразное дополнение к трейлеру, покрытому грубыми мазками в стиле поп-арт того же авторства. В ящиках для растений пышно разрослись маргаритки, белые петунии, мексиканский вереск — вполне процветающие, несмотря на сорокаградусную жару.
— Тебе нравится? — спросила Сэди, появляясь из-за скульптуры с кусачками в руках. Возможное оружие, заметила я, на случай, если Сэди оно понадобится. — Я назвала ее «прошлая ночь», в честь того свидания вслепую, которое устроила мне Ирэн. О чем она только думала? Ему как минимум пятьдесят. И у него всего пять волосин. А по дороге он уже пытался запустить свою лапу мне в джинсы. Хорошо, что я ношу стрейч и у него не получилось. — Она ткнула кусачками в сторону моих ног. — Отлично смотрится, кстати. Что случилось?
— Внутри, — уклонилась я.
Пока она собирала с земли свои инструменты, я составляла список наших физических различий. Сэди была не слишком высокой, зато длинноногой, как папа. Мы часто загорали с ней в бикини, вытянувшись на расшатанных садовых креслах и намазавшись «Криско»[11] или детским маслом, а потом каждые полчаса сравнивали прогресс, сдвигая наши руки. Я вечно проигрывала. Сэди прожаривалась до золотистой корочки, а лучшее, что удавалось мне — розовый оттенок жвачки. Ее темные волосы были прямыми, как у меня и мамы, но она всегда безжалостно их состригала. Моей сестре повезло — или не повезло — унаследовать милые, открытые черты лица, которые бестолковые мужчины часто принимали за признак доступности.