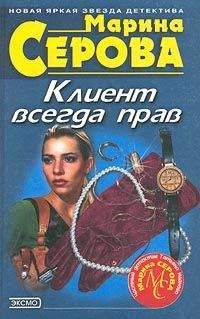Она тепло взглянула на меня, словно прося поддержки. Я ответила ей таким же дружеским, ободряющим взглядом.
— И потом, в этот клуб пригласила нас ты, — перешла в наступление Левицки, — я понятия не имела о нем. Альберт вообще предложил отправиться в какой-нибудь хороший ресторан.
— Мне надоели хорошие рестораны, — с капризно-плаксивыми нотками в голосе сказала Вероника, — в этом клубе у меня много друзей.
— Геев? — уточнила я.
Вероника бросила на меня уничтожающе-презрительный взгляд.
— А что, они не люди? — с вызовом спросила она.
— Отчего же, — невозмутимо улыбнулась я, чем заслужила еще один испепеляющий взгляд Вероники, — среди них огромное число талантливых людей. И этот феномен вполне объясним.
— И как же вы его объясняете? — заинтересовалась Левицки.
— За меня объяснил Фрейд.
— Любопытно послушать…
Я заметила, что Вероника смотрит на мать со злобным раздражением. Перехватив мой взгляд, она, должно быть, устыдилась своей откровенности и опустила глаза.
— Фрейд дал исчерпывающий анализ феномену толпы. Коллективному бессознательному, то есть. Заметьте, что геи и лесбиянки вечно объединяются в какие-то общества и группы. Клуб — это тоже некое объединение…
— Конечно, — насупилась Вероника, — пока общество будет к ним так относиться, они вынуждены будут искать поддержку друг у друга.
— Как только молодой человек или девушка обнаруживают в себе сексуальный интерес к представителям своего пола, они чувствуют себя как бы выброшенными за борт. Они не в потоке, они разобщены и в одиночку маются со своей бедой. У них развивается жуткий комплекс неполноценности, они хотят создать свое общество, потому что человека все время тянет в толпу. Он боится самого себя, боится остаться один на один со своим жребием. Разнополая любовь в этом смысле — всегда риск: нужно узнавать и познавать другую психофизиологическую организацию: женщине — мужскую, мужчине — женскую. Здесь, повторяю, сугубо индивидуальный риск. Какая же психологическая особенность, спросите вы, формирует желание заниматься сексом с однополым существом? Все тот же страх, страх принять на себя ответственность за развитие отношений с индивидом противоположного пола, страх разочарования, потому что мужчина не так устроен, как женщина. Это не требует доказательств. Не зря же геи и лесбиянки бравируют тем, что, мол, мы, мужчины, или мы, женщины, лучше знаем себе подобных, а потому лучше понимаем их и, следовательно, у нас более гармоничные отношения с партнерами, нежели в разнополых союзах.
— То есть вы хотите сказать, — попыталась конкретизировать Левицки, — что неортодоксы — трусы?
— В какой-то мере, — спокойно согласилась я, — но и эти трусы жаждут самоутверждения, так сказать, на почве личной авантюры, — мне почему-то нравилось говорить менторским тоном, — итак, подстраховавшись, заручившись поддержкой толпы, они все же хотят заявить о себе как о личностях. И тут на помощь им приходят искусство, музыка, литература…
— …живопись, — с лукавым видом подхватила Эльвира. — Интересная концепция.
— Но мы, кажется, немного отвлеклись, — я закурила новую сигарету.
— Значит, вот почему так талантлив твой приятель-гей, — шутливо обратилась Левицки к дочери.
Вероника отчужденно смотрела на мать и враждебно — на меня.
— Извините, — ее лицо страдальчески передернулось, губы задрожали, она судорожным жестом поднесла к глазам платок, который все это время комкала в руках, и, вскочив, выбежала из комнаты.
Мы услышали протяжный всхлип и потом — рыдания. Переглянувшись, мы погрузились в молчание. Вскоре Левицки сокрушенно, словно каялась в собственной бесчувственности, покачала головой и вполголоса произнесла:
— Она ужасно страдает…
Я выразительно вздохнула.
— Вам понравился клуб? — чтобы как-то разрядить напряженную атмосферу, спросила я.
— Да-а, — Левицки немного сконфуженно улыбнулась. — Но мне, несмотря на мои передовые взгляды, все же странно, что моя дочь поддерживает отношения с геями.
— Может, она просто жалеет их, сочувствует им?
— Скорее, хочет заявить о себе как об эксцентричной особе, смелой и раскованной. Я узнаю в ней себя, — со смесью сожаления и гордости сказала Эльвира. — Хотя меня мужчины больше интересовали в качестве любовников, а не друзей. Нет, — воскликнула она, — я просто полна негодования! Как это так, мужчина, сидящий рядом со мной, пожирает плотоядным взглядом другого мужчину! Я бы посчитала себя оскорбленной до глубины души! Я уж спрашиваю себя, не мазохистка ли моя дочь?!
Левицки была очаровательна в своем наивном возмущении, в своем детском тщеславии. Я прямо-таки залюбовалась ею. Вообще, встречаясь изредка с иностранцами — а Левицки, хоть и была русской по рождению, провела большую часть жизни за границей, — я поняла, что все они во многом схожи с неразумными детьми. Очевидно, чрезмерная легкость бытия влияет на них таким образом, что они становятся несколько инфантильными, что ли.
— Может, сострадая геям, она хочет, чтобы и они ей в свой черед сострадали? — осмелилась предположить я.
— Не знаю, — резко приподняла плечи Левицки, — но зачем ей их сочувствие? Решительно не понимаю: у нее прекрасный муж… то есть, был… — осеклась она, — работа, уважение коллег, блестящие перспективы…
— Человек сложно устроен, — сказала я банальность, — но вернемся к вашему вечеру в клубе.
— Этот ее приятель дивно пел, ему горячо аплодировала вся тусовка. Его зовут Пинна… то есть, наверное, это его прозвище. Потом он подошел к нашему столику и увел Веронику к себе в гримерную. Она пробыла там минут десять, после чего вернулась к нам. Пинна снова вышел на сцену в андалузском наряде. Он зажигательно танцевал и пел, я была им очарована. Досадно, что такой парень — гей, — шутливо вздохнула Эльвира. — Вслед за ним выступил дуэт Карамболи и… черт, забыла кличку другого гея… В общем, мы от души повеселились.
— Что было потом?
— Потом я поехала в гостиницу «Братислава», где остановилась, а Вероника с Альбертом — к себе домой, — пожала плечами Эльвира.
— А ночью Альберт Степанович был убит…
— Да, — у Левицки дрогнула верхняя губа.
— В какое время вы вернулись в гостиницу?
— Около двенадцати, это можно уточнить у портье.
— Хорошо. Как вы узнали о смерти зятя?
— Утром мне позвонила Вероника. Она была не в себе, лепетала что-то бессвязное. Я незамедлительно поехала к ней и нашла ее в ужасном состоянии. Вслед за мной приехала милиция, оказывается, Вероника вызвала ее. В тот вечер они с Альбертом поругались. Он отправился на дачу, будучи не в силах оставаться дома. А утром туда поехала Вероника и нашла Альберта мертвого, с двумя пулевыми ранениями.
— Вы не могли бы пригласить вашу дочь? — попросила я. — Может, ей стало немного лучше и она расскажет мне, как все произошло?
— Конечно, — Левицки загасила сигарету в пепельнице и направилась в соседнюю комнату.
Минут через пять она появилась под руку с заплаканной Вероникой.
— Девочка моя, — нежно обратилась к дочери Левицки, — Татьяна…
— … Александровна, — помогла я.
— Татьяна Александровна просит рассказать, как ты нашла Альберта.
При этих словах как будто заново потрясенная Вероника всхлипнула и разревелась, уткнувшись в плечо матери. Левицки гладила ее по голове, что-то приговаривая.
— Садись, — Эльвира подвела дочь к дивану и усадила на него с такой осторожностью, если не сказать боязливостью, словно та недавно перенесла тяжелейшую операцию.
— Я понимаю, что вам очень трудно, — прочувствованно сказала я, — но постарайтесь мне описать эту сцену в деталях.
От меня не укрылся взгляд Левицки, он был полон горькой досады и жалости к своему чаду.
— Это пытка, — опять всхлипнула Дюкина, — я… я…
— Нельзя ли отложить расспросы? — в своей горделиво-сострадательной манере спросила Левицки, умоляюще глядя на меня.
— Я прошу вас, — здесь уже я бросила на нее, а потом на Веронику умоляющий взор.
— Я приехала на дачу утром, около восьми, — Вероника уронила голову на плечо сидящей рядом матери, — вошла в дом. У меня был ключ. Мне было так плохо — накануне мы поссорились с Берти, я не спала почти всю ночь. Господи, если бы я знала!
По ее худенькому телу пробежала судорога, по щекам вновь потекли слезы.
— Успокойся, — легонько похлопала ее по плечу Эльвира, — ну же!
— Он был в спальне, лежал на кровати одетый, на боку, спиной ко мне. Я подошла и окликнула его. Он спал — так я вначале подумала. Я стала говорить ему всякие ужасные вещи, упрекать его в том, что он меня не любит и никогда не любил, потом — просить все забыть и начать жизнь сначала. Я обливалась слезами, умоляла, кричала, но он был глух. «Господи, — подумала я, — как же он толстокож и эгоистичен, как жесток, если ни мои крики, ни мои слезы не могут заставить его проснуться, сказать мне несколько утешительных слов!» Он не издавал ни звука. Я не могла понять, почему он так ведет себя. Или он чувствовал себя настолько оскорбленным, что игнорировал меня и не хотел даже смотреть на меня? Я легла рядом, прижалась к нему и обняла. Потом пошевелила, снова позвала, но он был нем. И тогда я встала…