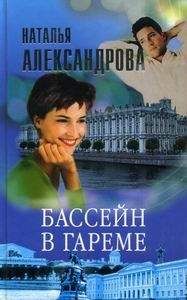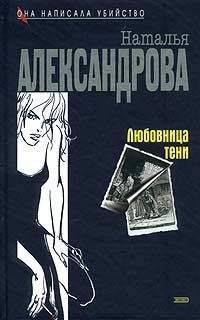Гоша постарался не пялиться на всю эту роскошь. Он прошел к столу. Аристархов поднялся ему навстречу, протянул руку. Красноватые глаза альбиноса смотрели весьма доброжелательно, на массивном выразительном лице стареющего римского патриция играла высокомерная улыбка.
– Ты, душа моя, на редкость точен… для представителя молодого поколения. И галстук у тебя под цвет фамилии. Ладно, душа моя, не обижайся на старика, говори, зачем хотел видеть.
– Такое дело, Андрон Аскольдович, – начал Гоша, растягивая слова и думая, как бы половчее подойти к старому живоглоту.
– Ты не мямли, не мямли, не люблю, – поторопил Аристархов, – говори прямо, чего надо.
– Ваши ребятишки недавно работали у нас в Эрмитаже, на третьем этаже. Я еще помогал вам с разрешением… Тогда ведь Жибера тоже копировали… Так у вас эта копия уже ушла?
– «Бассейн в гареме»? – Аристархов привстал, глаза его хищно загорелись, в массивной напряженной фигуре появилось что-то тигриное. – Гоша, душа моя, ты что там такое удумал? Мой старый красный нос чует запах денег!
– Андрон Аскольдович! – взмолился Гоша. – Неужели вам денег не хватает? У вас такой бизнес – дай Бог всякому! Неужели нужно отнимать у меня мою маленькую конфетку?
– Ну-ну, – усмехнулся Аристархов, – знаю я эти конфетки! Опасно играешь, душа моя! Кража из Эрмитажа – это громкое дело! Такого, пожалуй, никогда не было! Его будут серьезно копать, не дай Бог, попадешь в поле зрения.
Андрон Аскольдович, не будем о неприятном, давайте по-дружески: я у вас куплю эту копию и расстанемся по-хорошему. И я вам всегда помогу с разрешениями на копирование… договорились? По глазам вижу, что договорились! И вам будет гораздо спокойнее: сами же говорите – игра становится опасной, около эрмитажной кражи лучше не суетиться, как бы тут и ваш бизнес не высветился… А так вы отдадите мне эту копию – и никаких проблем, знать ничего не знаете… Да вы сами посудите: теперь вывезти копию Жибера из страны практически невозможно, каждый мальчишка на таможне при виде этой картины сделает стойку и увидит себя в новых погонах!
– В твоих словах, душа моя, есть резон, – осклабился Аристархов, – но сам посуди: тебе эта картина нужна, ты явно собираешься сделать на ней хороший бизнес, как я могу такой случай упустить? Бог, дорогой Гоша, велел делиться, – наставительно продолжал Аристархов. – Так что я тебе копию, конечно, отдам, но не даром же, душа моя, не даром! Ну, можно сказать, почти даром: по старой дружбе уступлю за пятнадцать тысяч.
– Долларов?! – ужаснулся Гоша.
– Ну не эскудо же, душа моя.
– Андрон Аскольдович, побойтесь Бога! Что вы такое говорите? Да вы за такие деньги и в Париже ее не продадите! Настоящий-то Жибер ненамного больше стоит! А здесь вам – никаких хлопот: ни вывозить, ни с таможней разбираться, ни покупателя искать. Получили деньги из рук в руки – и спите спокойно.
– Душа моя, я ведь прекрасно знаю, что ты наверняка уже нашел покупателя, значит, копия тебе нужна позарез. Плати, дорогой, или отваливай.
– Андрон Аскольдович, акула вы моя ненаглядная! Мироед мой сахарный! Вы же пожилой человек, профессор, почему же вы так выражаетесь? «Отваливай» – это слово не из вашего лексикона. И такая хватка, простите меня, тоже вам не к лицу. В вашем возрасте пора бы и о душе подумать!
– Ну, душа моя, я сказал. Хочешь картину – плати.
– Ну посудите сами! Подлинный Жибер в лучшем случае стоит пятьдесят – шестьдесят тысяч! Сейчас вокруг него скандал, за настоящую цену его никто не купит, в лучшем случае, какой-нибудь сумасшедший заплатит тысяч двадцать. А у вас же как-никак копия! Ну поимейте совесть!
– Душа моя, – профессор Аристархов откинулся на спинку кресла и, полузакрыв глаза тяжелыми веками, следил за Фиолетовым, как старый пресыщенный кот следит за несчастной затравленной мышью, – душа моя, копия у меня, она тебе нужна. Даже если ты продашь ее за двадцать штук – все равно немножко на ней наваришь. Так что соглашайся, других предложений не будет.
Гоша посмотрел на Аристархова с уважительной ненавистью и сказал:
– Ах вы живоглот недорезанный! Хотел с вами по-хорошему договориться, думал, дам вам заработать лишнюю копейку, и сам побыстрее вопрос решу. Но раз уж вы так настроены – оставайтесь при своей мазне. Художников безработных пруд пруди, они мне за гроши с репродукции копию сделают! Прощайте!
Гоша сделал вид, что встает и собирается уходить. Аристархов открыл глаза и взглянул на Гошу так, как будто увидел его впервые.
– Растешь, растешь, душа моя! Ну и сколько бы ты предложил старику, чтобы… закрыть побыстрее свой вопрос?
– Максимум – две тысячи! – отрезал Гоша, почувствовав отчетливый перелом в ходе разговора.
– Ну возьми себя в руки! – возмутился Аристархов. – Такие цифры называть в моем кабинете просто неприлично!
– Вы торгуетесь, как извозчик! – теперь уже Гоша посматривал на профессора с чувством превосходства. – Скоро бросите на пол шапку и будете ее топтать. И знаете еще что, Андрон Аскольдович? Вы забыли прибавить «душа моя». Хотите две тысячи – берите, не хотите – я ухожу. Другой цифры вы от меня не услышите.
На самом деле Гоша готов был заплатить три тысячи – все его сбережения, и он принес эти деньги во внутреннем кармане пиджака, но почувствовав, что Аристархов сдается, решил стоять на своем.
– Ладно, душа моя, грабь, убивай… Только ради нашей старой дружбы!
Аристархов встал из-за стола, подошел к одному из книжных шкафов. Достав из кармана связку ключей, поколдовал над одной из книжных полок шкафа, загородив ее своим массивным телом. Шкаф неожиданно отъехал в сторону, открыв проход в небольшую кладовку. Аристархов покосился на Гошу и шагнул в открывшийся проем. Гоша с любопытством наблюдал за ним, но ничего разглядеть со своего места не сумел. Через полминуты профессор вернулся, держа в руке свернутый в трубку холст.
– Вот, душа моя, твой Жибер, и помни мою доброту!
Гоша отсчитал двадцать сотенных купюр с портретом президента Франклина, Аристархов демонстративно проверил каждую на ультрафиолетовом детекторе.
***
По дороге домой Гоша остановил машину возле малоприметной подворотни на Московском проспекте. Взяв сумку с заднего сиденья, зашел во двор, толкнул дверь с надписью «Срочное фото». На скрип двери из-за занавески вышел коренастый плотный грузин с трехдневной щетиной на подбородке. Увидев Гошу, он широко улыбнулся:
– Привет, генацвале, давно не заходил!
Фотограф закрыл дверь на замок, повесив на нее табличку «Технический перерыв». Гоша зашел за занавеску и поставил на маленький обшарпанный столик бутылку коньяку.
Хозяин фотографии Шота Джинчарадзе был старинным Гошиным приятелем, они учились вместе в старших классах школы. Шота приехал с родителями в Петербург, тогда еще Ленинград, из Батуми – влажного и жаркого мандаринового рая. Они быстро подружились с Фиолетовым, их сблизила общая страсть к «тяжелому металлу», они обменивались дисками, переписывали друг у друга «АС/ДС» и «Металлику». После школы их пути разошлись, Гоша занялся искусствоведением, а Шота вместе с отцом работал в доставшейся им от родственника маленькой частной фотографии. В девяносто пятом году Шота в одночасье схоронил обоих родителей – отец умер от опухоли мозга, а мать просто не смогла пережить смерть любимого мужа. Шота остался один, работал по-прежнему в фотографии. Гоша Фиолетов наведывался к нему время от времени, по старой памяти они слушали «металл», вспоминали школьные годы и выпивали рюмку-другую.
– Шота, дружище, есть у тебя надежное место? Мне нужно на некоторое время спрятать одну вещь.
Шота с любопытством взглянул на друга: Как не быть? Сам понимаешь, я тут один, как памятник на площади, у всех на виду: то рэкет налетит, то налоговая, не к ночи будь помянута. Конечно, надо иметь надежное местечко… Большую вещь спрятать надо?
Гоша расстегнул сумку и вынул завернутый в холстину рулон. Шота кивнул. Он включил настенное бра и выключил освещавший его маленькую комнатку потолочный светильник. Затем он встал на табуретку и повернул плафон светильника вокруг оси. Плафон отъехал в сторону, открыв в потолке пустоту, вроде маленькой потайной антресоли. Там лежали какие-то бумаги. Шота взял у Гоши сверток, убрал в тайник и вернул плафон на место.
– В разных местах искали, – сказал он, слезая с табуретки, – стены простукивали, пол поднимали, но на лампу никто не смотрел – глазам больно. Ну, генацвале, как живешь? – И Шота поставил на стол два стакана.
Безобидный вопрос приятеля почему-то расстроил Гошу. Он выпил залпом полстакана коньяку и с горечью уставился на обшарпанную стену фотоателье.
Как он живет? Ему неожиданно стало жалко себя, жалко до слез. Собственная жизнь показалась ему такой же жалкой и обшарпанной, как эта стенка в неровных подтеках масляной краски. Да, он работал в Эрмитаже, тысячи искусствоведов во всем мире мечтают о такой работе… Да, он сумел защитить кандидатскую диссертацию на тему портретной живописи Робера Лефевра… И перебивался на нищенскую зарплату в семьдесят долларов, которую просто неприлично было бы назвать какому-нибудь зарубежному коллеге… Он ни разу не был в Италии – а как можно изучать искусство, не побывав в этой его колыбели, не пожив несколько месяцев во Флоренции, не изучив как свои пять пальцев каждый зал Уфицци и Академии, каждое здание на Пьяцца Синьории и Калимала… Не туристом промчаться по сказочным городам Ломбардии и Тосканы, а жить там, ходить, не торопясь, по их булыжным мостовым, встречать рассвет на берегу Тибра и Арно, пить кофе на площади Святого Марка и кьянти – в уличном кафе напротив Церкви-на-Арене… Да что там, изучая французскую живопись, он даже не был в Лувре!