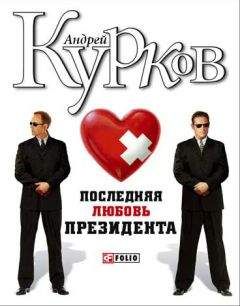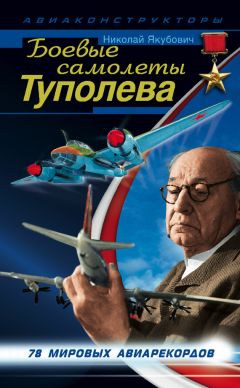– Да… – выдохнул я. – Откуда вы все это узнали?
– Врач, который вас осматривал недавно, нашел меня и поделился своими подозрениями. Фамилия Резоненко.
Я кивнул. Я помнил, как этот врач замолчал, как только в комнате появился Львович.
– А Львович где? – спросил я с подозрением.
– Здесь, здесь. Работает! Все в порядке, то есть он в порядке. Проверенный.
Последнее слово Светлов произнес задумчиво.
– А кто не в порядке?
– Майя. Она пропала… На рейсе из Симферополя ее не оказалось.
«Ну что ж, – подумал я. – Вполне логично. Женщина, мечтающая посидеть в ресторане «Метрополь», не может быть патриоткой Украины. К тому же вдова олигарха…»
– Через полчаса у нас тут совещание, – Светлов перешел на шепот. – Врач сказал, что вам уже можно участвовать в принятии решений.
– У нас тут – где? – спросил я. – Где я вообще нахожусь?
– В Карпатах, в тюрьме, построенной для операции «Чужие руки». Не беспокойтесь, практически никто об этом не знает, а сама территория охраняется, как секретный горный полигон.
Я вдруг смутно вспомнил о решении избавиться от небезопасных арестантов этой тюрьмы.
– А тут кроме меня кто-то еще сидит? – поинтересовался я осторожно.
– Сидят, сидят. И хорошо, что мы от них не избавились! Они нам еще пригодятся в нынешней ситуации. Все-таки представители российской власти, какие-никакие!
Киев. 21 мая 1992 года. Утро.
Мира со своей мамой встречают нас, можно сказать, с распростертыми объятиями. Они уже накрыли стол старой розовой скатертью, вытащенной, видимо, из буфета. Ведь я ничего после смерти старика в этой комнате не трогал. Ничего от нее не отнял. Только добавил немного своего барахла.
На столе шипит электросамовар, а вокруг самовара хороводом выставлены цветастые чайные чашки на блюдцах. Этакий чайный парад планет. И две вазочки с печеньем и дешевыми конфетами.
– У нас такой хороший израильский чай! – приговаривает Мирина мама, роясь в одном из баулов.
Чемоданы и эти безразмерные сумки-баулы занимают теперь почти треть моей комнаты.
– Куда я его положила?! – спрашивает она сама себя. Потом оборачивается. – Мира! Ты не помнишь, куда мы положили чай?
– Там, где кулек со специями и финиками, – подсказывает Мира и, пройдясь по баулам внимательным взглядом, показывает маме, где все это лежит.
Я смотрю на совершенно одинаковые сумки-баулы и не могу понять: каким образом их можно отличить друг от друга? Хотя женщины, должно быть, имеют эту способность. Они же отличают друг от друга своих детей-близнецов.
Минут через пять мы уже сидим за столом.
– Я тебе так благодарна! – говорит мне Лариса Вадимовна. – Мне соседи все рассказали. И про поминки, которые ты организовывал, и о том, какой ты хороший! Вот бы мне такого сына!..
У моей мамы при этих словах в глазах мелькает явное желание сказать какую-нибудь гадость или резкость. Но она сдерживается. И мы продолжаем внимательно слушать Мирину маму, ругающую теперь грязных арабов и таких же грязных евреев.
– Это же надо, – причитающим голосом монотонит она. – Я знала, что есть водобоязненные евреи, от которых плохо пахнет. Я и тут одного такого портного знала, но там их сплошь и рядом! И куда они нас поселили! Я приехала с культурной дочерью из столицы, а они нас в колхоз с общественной столовой и еженедельными собраниями! Да я никогда не была в партии. Зачем мне собрания!
Я пью чай и жду, когда Мирина мама наговорится. Она, видимо, долго молчала. Несколько лет.
Моя мама тоже терпеливо слушает, но по ее лицу видно: терпения у нее осталось минут на десять. Не больше.
И действительно. Допив вторую чашку чая, мама предлагает мне и Мире пойти прогуляться, а они с Ларисой Вадимовной обсудят ситуацию.
Мирина мама совершенно спокойно соглашается и по-хозяйски, но приветливо кивает мне на двери.
– Ну что? – спрашиваю я Миру, когда мы выходим из парадного. – В кафе?
Она задумчиво смотрит на меня. Потом предлагает пойти в Музей русского искусства.
– Я соскучилась по прекрасному, – говорит она.
Я присматриваюсь к ее лицу. Она ничуть не изменилась, только стала чуть смуглее. Это, видимо, из-за жаркого израильского солнца.
– Музей так музей, – говорю я.
Киев. Декабрь 2004 года.
– У вас редкая форма патологии, – грустно произнес пожилой профессор, снимая с мясистого носа очки и пряча их в нагрудный карман белого халата.
Перед ним на столе лежали результаты анализов. Анализов, ради которых мне пришлось физиологически унижаться, позволять людям в белых халатах давать мне самые неприятные указания и советы, позволять им руками в резиновых перчатках ощупывать, пальпировать меня во многих труднодоступных местах. И все ради какой-нибудь капельки внутренней секреции или еще какой-то жидкости, которую из тела иначе не добудешь. Я уже помолчу о своих ощущениях при добывании из себя спермы самым недостойным для взрослого мужчины способом.
И вот теперь, когда все этапы унижения пройдены, приговор звучит, как выстрел в затылок: «У вас редкая форма патологии!»
– Нет, на образ жизни это не может влиять, – добавляет профессор успокаивающим тоном. – Все дело в том, что ваши сперматозоиды. Это очень редкая аномалия, по крайней мере среди сперматозоидов.
– Не тяните! – взмолился я, понимая, что профессорская манера разговора может свести меня с ума.
– Да-да, я уже подхожу к самой сути. У вас в сперме до восьмидесяти процентов здоровых сперматозоидов. Но они страшно пассивны, невероятно медлительны. И двадцать процентов, скажем так, генетически дефектных, но страшно быстрых и бойких. И вот эти двадцать процентов дефектных сперматозоидов всегда будут обгонять здоровых, всегда будут первыми. Вы понимаете?
– Вы хотите сказать, что у меня не может быть здоровых детей?
– Это было бы упрощением, сказать такое. – Профессор опять напялил на нос очки и взял в руку один из бланков анализа. – Если бы полностью все сто процентов сперматозоидов были дефектными, но ведь у вас. У вас не такая печальная перспектива. Правда, меня смущают ваши здоровые сперматозоиды. Почему они не активны?!
– Вы у меня спрашиваете? Лучше скажите, что мне делать дальше?
– Я слышал, один молодой ученый разработал метод очистки спермы. По тому же принципу, что и очистка крови. Думаю, вам имело бы смысл с ним встретиться. Я вижу, что вы человек, который не будет долго и терпеливо лечиться. Я прав?
– Я – очень занятой человек, – процедил я сквозь зубы.
Галстук начал давить шею. Я ослабил узел.
– Я понимаю, – кивнул профессор. – Лечиться можно и позже. А если вы беспокоитесь о здоровом наследии, то действительно обратитесь к этому специалисту. Он тоже молодой. Он войдет в ваше положение. Вы, кажется, хотите зачать ребенка и как можно скорее. Да?
– Можно сказать и так.
Профессор развел руками.
– Тогда только один путь. Провести очистку спермы и затем искусственное оплодотворение. Давайте, я не буду вас задерживать! Где-то у меня тут лежала его визитка…
Профессор сдвинул мои анализы. Поднял какие-то другие бумажки, исписанные нечитаемым докторским почерком. Выхватил из-под бумаг прямоугольник визитки и протянул ее мне.
– Он серьезный молодой ученый, к нему уже многие обращались. Да, и возьмите ваше анализы. Отдадите ему!
Я поднялся, спрятал полученную от профессора визитку и бланки анализов в карман и вышел.
– Куда теперь? – спросил меня Виктор Андреевич, когда я устроился на заднем сиденье своего служебного «мерса».
– Туда! – скомандовал я, протягивая водителю только что полученную визитную карточку.
Карпаты. Январь 2016 года.
Вскоре я понял, что преувеличил свою слабость. По крайней мере слабость рук. Это стало ясно, когда двое офицеров охраны перед началом совещания помогали мне сесть в кровати. Они взяли меня с двух сторон под руки и просто подтянули вверх. Точнее, далась им эта процедура совсем не просто. Моя внезапная физическая тяжесть, равно как и недавняя слабость моих рук, довольно быстро получила объяснение. Поверх толстого свитера на мне был надет тяжелющий бронежилет. Судя по весу, он мог бы спасти меня при прямом попадании артиллерийского снаряда. Впрочем, моя догадка по поводу его возможностей оказалась лишь слегка затронувшей правду. Жилет на самом деле был еще одной линией защиты моего предательского сердца. Он дублировал блокировку сердечного датчика. Весил он не меньше полусотни килограммов.
На совещание явились Коля Львович, генерал Филин, еще двое мужчин в штатском сумрачно-решительного вида, за которых поручился сам Светлов. Заглянул в палату и врач Резоненко. Его я узнал сразу. Он заглянул, отыскал меня взглядом и ободряюще кивнул.