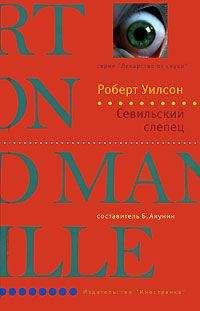Хуанита накрыла стол во внутреннем дворике и вынесла маслины и прочие pinchos.[111] Пако выставил блюдо с окороком. Прибыла Мануэла со своей компанией, и все они стояли во дворике, потягивая мансанилью и покрикивая на носившихся сломя голову детей. Из взрослых гостей только сестра Алехандро, сама тощая как богомол, не сказала Хавьеру о его нездоровой худобе.
Пако был в приподнятом настроении и оживленно болтал о своих чудесных быках, которых привезли в это утро для завтрашней корриды. Хотя рана, нанесенная рогом соперника красавцу retinto, еще не совсем затянулась, бык был очень силен. Пако называл его Фаворитом. Единственное, о чем он предупредил Хавьера, — это что кончики рогов у него необычно загнуты вверх и близко сведены. Даже если бык низко опустит голову, атаковать его спереди будет трудно.
В четыре часа был подан жареный барашек, и они уселись за стол. Мануэла тотчас же оценила качество вина и спросила, сколько еще бутылок припрятал братишка. Чтобы отвлечь ее внимание, Хавьер рассказал ей о маленькой урне. Мануэла загорелась желанием ее увидеть, и, когда с едой было покончено и Пако закуривал свою первую «Монтекристо», Хавьер принес урну из погреба. Мануэла сразу же узнала ее.
— Очень странно, — сказала она. — Не понимаю, как папа потерял мамины драгоценности, а это же притащил сюда из Танжера.
— Брось, Мануэла, он сроду ничего не выбрасывал, — вставил Пако.
— Но это мамина вещь. Я ее помню. Она стояла на туалетном столике с зеркалом дня два-три… примерно за месяц до того, как мама умерла. Я спросила ее, что это такое, потому что эта штуковина очень отличалась от всего, что она держала на туалетном столике. Я думала, может, внутри какое-то снадобье от той берберки, которая была ее горничной. Мама сказала, что в этом сосуде заключен дух чистого гения и его ни в коем случае нельзя открывать… странно, да?
— Она просто забавляла тебя, Мануэла, — заметил Пако.
— Я вижу, ты вытащил пробку, — обратилась она к Хавьеру. — Ну и как, нашелся там дух?
— Нет, — ответил Хавьер. — Кучка каких-то толченых костей или зубов.
— Звучит не слишком духовно, — произнес Пако.
— Скорее жутко, — уточнил Хавьер.
— Уж тебе-то, наглядевшемуся на кровь, стыдно пугаться горстки сухих старых костей, братишка, — сказала Мануэла.
— Но толченых? Мне это показалось диким.
— Откуда тебе известно, что они человечьи? Может, это кости старой коровы или что-то в этом роде.
— Но тогда при чем тут «дух чистого гения»? — спросил Хавьер.
— Ты разве не знаешь, откуда у мамы этот сосуд? — заговорил Пако. — Ей дал его отец… сто лет назад. Тогда в доме творилось что-то странное. Неужели не помнишь? Мама развела во дворике костер. Мы вернулись из школы, а под фиговым деревом черное пятно.
— Он был еще совсем крошечный, — вступилась Мануэла. — Но ты прав, на следующий день папа вручил ей эту штуку. И еще одна странность — та замечательная статуэтка, которую он годом раньше подарил маме на день рожденья… она исчезла. Мама еще держала ее рядом со своим зеркалом. Она действительно любила эту вещь. Я спросила ее, что с ней случилось, и она просто ответила: «Бог дал, Бог и взял».
— Примерно в это же время мама начала почти каждый день ходить к мессе, — продолжал вспоминать Пако.
— Да, а раньше и раз в неделю не выбиралась, — подхватила Мануэла. — И еще она перестала носить кольца. Только иногда надевала тот дешевенький агатовый кубик, который папа подарил ей на день рожденья. Это-то ты наверняка помнишь, братишка.
— Нет, не помню.
— Папа ведь дал подарок тебе, чтобы ты преподнес его за праздничным столом. Мама развернула коробочку, крышка отскочила и стукнула тебя по носу, и тут раскрылся бумажный цветок. Внутри цветка лежало кольцо. Получилось очень романтично. Мама была тронута. Я помню выражение ее лица.
— Она, должно быть, знала, что с ней что-то случится, — сказал Пако. — Все время ходила к мессе, носила только то колечко, которое подарил ей отец. То же самое было и со мной, перед тем как меня пырнул бык в «Ла-Маэстранса».
— А что именно? — поинтересовался Хавьер, зачарованный этими картинками из далекого прошлого. Он даже потрогал нос, пытаясь вспомнить, как получил по нему крышкой коробки.
— Я знал, что что-то произойдет.
— Откуда? — спросил тесть Пако, величайший из скептиков.
— Знал, и все, — ответил Пако. — Я чувствовал, что близится великий момент, но по молодости и самонадеянности полагал, что это момент славы.
— Но как ты чувствовал? — продолжал допытываться тесть.
— Ну, не знаю, — пытался объяснить Пако, помогая себе жестами, — было такое ощущение, что все сходится вместе.
— Как лучи в одной точке, — кивнул Хавьер.
— Тореадоры всегда очень суеверны, — заявил тесть.
— Ну да, когда так рискуешь жизнью… все имеет значение, — сказал Пако. — Звезды, планеты…
— Они сходят ради тебя с орбит, что ли? — не унимался тесть.
— Я преувеличиваю, — ответил Пако. — Может, это просто было шестое чувство. Может, только оглядываясь назад, я вижу какой-то особый смысл в событии, которое в считанные секунды перечеркнуло мою молодость.
— Прости, Пако, — смутился тесть. — У меня и в мыслях не было приуменьшать…
— Но поэтому я и хотел быть матадором, — продолжал Пако. — Мне нравилась определенность опасности. Это как проживать жизнь с осознанием всех ее подвохов. Случилось лишь то, что я неверно истолковал знаки. Никто не смог бы предсказать то несчастье. Пока я раззадоривал быка мулетой, он ни разу не свернул за ней направо, носился исключительно по прямой и вдруг… когда я оказался как раз над рогами, боднул с изворотом вправо. Как бы то ни было, мне посчастливилось остаться в живых. Это как мама сказала Мануэле: «Бог дал, Бог и взял». Без всяких причин.
На этом обед закончился, и Мануэла со своей компанией уехала. Семейство Пако и его родственники со стороны жены пошли наверх соснуть. Хавьер и Пако остались сидеть во дворике с бутылкой бренди. Пако сильно наклюкался.
— Может, ты был слишком умным для тореро, — начал Хавьер.
— Я жутко учился в школе.
— Тогда, может, ты слишком много думал.
— Да ничего подобного, — отмахнулся Пако. — Это уже потом пришли раздумья. Когда бык меня покалечил, я занялся наведением порядка у себя в голове. Все сообщения и видеоматериалы о моих звездных мгновениях, которых никогда не было и никогда не будет, отправились в мусорное ведро. После этого я ощутил жуткую пустоту. Меня мучили ночные кошмары, и все решили, что я заново переживаю тот жуткий момент, но для меня-то это было в прошлом. Мои страшные сны были о будущем.
Пако налил себе еще бренди и подвинул бутылку Хавьеру; тот покачал головой. Пако перекатил через стол цилиндрическую сигару, и Хавьер тем же путем отправил ее ему обратно.
— Образец самообладания, — буркнул старший брат.
— Ты и в самом деле так думаешь? — спросил Хавьер, чуть не расхохотавшись.
— Да-да. Ты всегда спокоен и невозмутим. Не то что я. Я был в полном мраке. Нога как тряпка, и никаких перспектив. Ты же знаешь, меня спас папа. Он устроил меня на ферме. Купил мне первое стадо. Он дисциплинировал меня… задал направление.
— Конечно, он был солдатом и понимал, что нужно мужчине, — сказал Хавьер, сознавая, что ради Пако несколько приукрашивает правду.
— Ты все еще читаешь его дневники?
— Почти каждую ночь.
— Это как-то меняет твое отношение к нему?
— Видишь ли, он писал абсолютно, до ужаса честно. И это заставляет меня восхищаться им, но его откровения… — ответил Хавьер, помотав головой.
— С каких пор он был в Легионе? — спросил Пако. — Они ведь творили черт-те что, эти легионеры, ты ведь знаешь.
— Он участвовал в нескольких кровавых акциях истребления в Испании во время гражданской войны и в России во время Второй мировой войны. Какая-то доля зверства, приобретенного им в этих войнах, продолжала жить в нем, даже когда он перебрался в Танжер.
— Мы не замечали ничего подобного, — сказал Пако.
— Зато в своем бизнесе он пользовался теми же методами, что на войне… Методами устрашения, — объяснил Хавьер. — И это прекратилось только тогда, когда он полностью посвятил себя живописи.
— Думаешь, живопись помогла ему?
— Я думаю, что он выплескивал в нее свою ожесточенность, — ответил Хавьер. — Славу ему принесли Фальконовы «ню», но многие его абстрактные картины порождены опустошенностью, злобой, безысходностью и порочностью.
— Порочностью?
— Читать эти дневники все равно что заниматься уголовным расследованием, — продолжал Хавьер. — Постепенно все выходит наружу. Вся тайная жизнь. Обществу — да и нам тоже — было открыто только то, на что прилично смотреть, но, по-моему, ему так и не удалось изжить в себе жестокость. Она проявлялась по-разному. Ты ведь знаешь, что часто, продав картину, он тут же бежал наверх и писал точную ее копию? Он всегда смеялся последним.