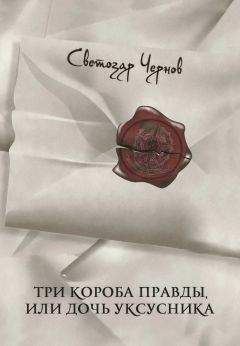Спустя несколько минут по вызову Секеринского к кухмистеру из казарм роты дворцовых гренадер прибыли жандармский штабс-капитан Бронюшец-Клейф и сотник от атаманцев. Лукич, личным распоряжением Черевина временно призванный на военную службу, провел их через темную гостиную мимо дремавшего на табуретке у зашторенного окна человека в штатском в ярко освещенную столовую, где за накрытым столом сидело начальство. Только урядник Стопроценко напряженно ходил из угла в угол, и полы его синей конвойной черкески взлетали, когда он резко разворачивался на каблуках.
— К оружию, граждане! — торжественно сказал Секеринский. — Кхе-кхе… Нам приказано взять штурмом дом, где засели заговорщики. Господин Соколов!
Секеринский выглянул в гостиную.
— Аполлон Николаевич!
Господин Соколов продолжал дремать.
— Вот, гений русского сыска! — показал на него Секеринский. — Какие нервы! Война началась, а он дрыхнет! Вставайте, скотина!
Соколов вскочил испуганно, уронив при этом табуретку.
— Что происходит в доме?
— Темно-с, — ответил Соколов.
— И давно?
— Давно-с!
— Странно… А мне померещилось, что там свет горит…
— Горит-с! — подтвердил Соколов, взглянув в щель между шторами.
— Эдакая балда, прости Господи! — озлился Секеринский.
— Не беспокойтесь, ваше высокоблагородие, всех в капусту порубаем, кто бы там ни был, — сказал Секеринскому сотник-атаманец. — Не впервой.
— Ступайте. С Богом, сотник.
Секеринский подошел к окну. Минут через пять после отбытия сотника он увидел, как десяток казаков с шашками наголо пробежали вдоль стены балашовского дома и один за другим исчезли за входной дверью. Тут же в окнах Варакуты погас свет, спустя минуту парадная дверь распахнулась, и на снег кубарем вылетел казак без шашки, хлопая себя руками по заду дымящейся шинели. Из подъезда повалил вонючий керосиновый дым, затем выскочили остальные казаки, отдуваясь и оттирая копоть с лиц. В тот же миг остальные полвзвода верхом с гиканьем примчались со стороны Литейного и стали безуспешно пытаться достать пиками окна второго этажа. Двое решились встать на спины лошадей, и на этот раз стекла со звоном полетели вниз. Однако заговорщики тоже были не лыком шиты. Один из них ухватил пику за древко, дернул ее на себя, а когда казак потянулся вперед, из окна вылетела гирька на длинной веревке и угодила казаку прямо промеж глаз. Тот кулем свалился с коня, а его товарищ был сражен пущенным из окна поленом. После чего на казаков обрушился град поленьев, посыпались тарелки, чашки, стулья, тяжелым снарядом вылетели ходики в длинном деревянном корпусе и засыпали шестеренками снег, рассадившись оземь.
Секеринский видел, как подскакал сотник и, воинственно размахивая шашкой, что-то кричал заговорщикам. В ответ на его слова из окна вылетел круглый блестящий предмет и сразил сотника ударом по маковке.
— Бомба! — крикнул сотник, падая с коня спиной на снег, и казаки залегли.
Сверху раздался дикий хохот, и в окнах показались гогочущие бородатые хари — чистые черти: с черными бородами и воспаленными красными глазами. Казаки повскакивали на ноги. Несколько человек устремились во двор, чтобы попытаться зайти с тыла, быть может с черного хода, или проникнуть иным способом на крышу.
С Гагаринской вывернула конка и, подъехав к месту сражения, остановилась, отчаянно звоня. Запрет на стрельбу разозлил казаков, некоторые, вернувшись в седла, крутились под окнами, норовя ткнуть дружинников у окон пиками, другие подбирали самовары и, насадив их на пики, закидывали обратно. Пассажиры на империале волновались, кондуктор нервно бил в колокол, но кучер отказывался трогать дальше.
— Да что же они, дурни! — всплескивал руками Стопроценко, глядя на атаманцев. — Кто же так делает!
Он выхватил в сердцах шашку и одним ударом рассадил стекла в обеих рамах.
— За Русь Святую! — раздавалось почему-то из гнезда заговорщиков, откуда летели самовары. — За Царя! Даешь семь копеек за пуд!
— Чего они кричат? — спросил Секеринский, подходя к окну и становясь рядом с Стопроценко. — Или мне послышалось?
— Странное что-то кричат, — поддакнул Соколов.
— Что же вы, братцы, к жидам да стюдентам переметнулись?! — доносилось из осажденной квартиры. — Бога и Царя забыли?! Немцам служите?
— Врешь все! — сказал кто-то из казаков озадаченно. — Сам ты студент!
— Это я стюдент?! Вот же тебе!
Меткий бросок оглоушил засомневавшегося казака самоваром.
— Эй, донское шипучее! — крикнул, не сдержавшись, Стопроценко. — Голова есть, али кочан?! Конку разверните да поставьте под окно!
Пассажиры с воплями и визгами бросились прочь из вагона и посыпались с империала.
— Да ты кто такой, чтобы нам указывать! — обернулся один из атаманцев в сторону квартиры кухмистера.
— Малюта! — изумился он, увидев конвойца. — Иди к нам!
— Негоже нам с ткачами силами меряться, наше дело царя охранять, — важно сказал Стопроценко, подравнивая шашкой остатки стекла в раме.
Атаманцы довели вагон конки до дома, сдернули его при помощи лошадей с рельсов, и он, проехал несколько шагов, уперся колесами в тротуарную плиту. Поняв идею осаждавших, дружинники высыпали на лошадей целый совок горячих углей из печки. Казакам пришлось обрубить постромки у самого валька и укрыть лошадей во дворе кухмистерской. Затем, на обратном пути они сняли с петель дверь дворницкой Капитоныча и заволокли ее с задней площадки вагона по винтовой лесенке на империал. Прикрываясь ею, они подошли почти вплотную к окнам, из которых в них летели поленья. Еще несколько казаков залезли наверх с пиками, дверь перебросили над тротуаром мостиком с империала на подоконник, и, выставив пики вперед, казаки полезли на штурм. В ответ ткачи придвинули к окну буфет, загородив им проход, а пока казаки щепили буфет шашками и кололи пиками, один из ткачей бросил из соседнего окна в вагон конки еще одну, прибереженную на крайний случай зажженную керосиновую лампу. Вспыхнувший керосин разлился по крыше вагона и огненным ручьем стек вниз к разбитому вагонному окну, откуда доносились завывания кондуктора, потерявшего от страха всякое соображение.
Казаки отскочили назад, и на них из-за мгновенно отодвинутого буфета обрушился новый град самоваров.
— Ох ты, батюшки, подстилка загорелась! — заверещал внутри вагона кондуктор, и стал поднимать тяжелые деревянные решетки на полу, прижимавшие солому.
— Тикай оттуда! — закричали ему казаки.
— Не могу-с! — отвечал кондуктор, на котором занялись полы шинели. — Отвечаю за вагон. И сумма при мне большая, хозяйская!
В вагон мигом заскочил здоровенный белобрысый атаманец и силой выволок сопротивлявшегося кондуктора на снег. Пока остальные казаки забрасывали горевшую шинель снегом, спаситель тряс кондуктора за ворот и орал:
— Ну, где сумма-то твоя?! Скоко здесь? И токо-то! Ну ладно, давай! А часы вам от хозяина выдают? Эх, братец, скудно как-то у вас…
— Остолопы! — закричал Стопроценко в гневе. — Просрали момент!
— Эх, был бы жив Артемий Иванович с его превосходительством, они бы их вдвоем взяли безо всякого труда! — зло сказал кухмистер Секеринскому. — И окна бы у нас не били.
— Это точно, — согласился Стопроценко, поняв, о ком речь, и перекрестился.
— Они бы сдюжили. Французам бы потом по-новой посольство с консульством отстраивать бы пришлось. Я уж про остальные дома не говорю.
— Ваше благородие! — вдруг заорали ткачи и стали кому-то на улице яростно махать руками. — К нам, к нам! Мы здесь! Бунтовщики нас одолевают!
Урядник удивленно высунулся из окна и увидел, как из подворотни соседнего дома выскочило двое поставленных там Секеринским агентов и набросились на капитана-семеновца, пытавшегося по стенке пробраться ближе к сражению.
— Ихнего начальника, похоже, цапнули, — сказал Стопроценко удовлетворенно.
Через несколько минут агенты приволокли капитана в квартиру кухмистера.
— Сеньчуков?! — изумился Секеринский. — А вы-то что здесь делаете?! Вы же в горячке лежите!
— Я шел по улице и спрашивал у двух городовых, которые прятались в подворотне, что здесь происходит. Я просто шел мимо.
— Вы же вчера еще в горячке лежали! На вас и сейчас лица нет! — сказал Секеринский. — Ну, просто или не просто вы шли — это мы выясним позже, сейчас не до вас. Посидите пока здесь.
Ослепительная вспышка в квартире Варакуты, крики ужаса и внезапно погасший во всем квартале свет отвлекли полковника. В окне осажденного дома появилось растерянное лицо ткача, освещаемое пламенем, охватившем вагон конки.
— Блядь-матушка! — в ужасе крестясь, крикнул тот. — Замирение! Замирение, братцы! Бесовство какое-то! У нас Михалыч сгорел! За титьки в стене дернул — и сгорел! Керосин на ем вспыхнул!