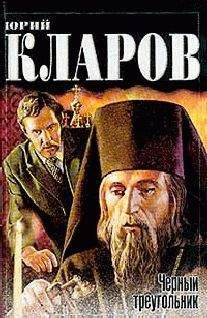Вон оно как!
Ежели б ложки шли подороже – ну, пусть не все, а первого разбора, – он бы, Перхотин, и не помышлял бы о ином промысле. А так что оставалось делать? С голоду помирать, с хлеба на воду перебиваться? Это для дураков. Умному помирать допрежь времени не с руки. Вот он помытарился, помытарился и согрешил. Не по охоте – по нужде. Грех – он грех и есть. Да только кто не грешен? Все грешны. От одного греха бежишь – об другой спотыкаешься. Ну и еще: кака рука крест кладет, та и нож точит… Раз согрешил, другой, а там и пошло. Каждому известно: в гору тяжело, а под гору санки сами катятся, не удержишь…
Учитывая, что «санки» Кустаря безостановочно «катились под гору» уже не первый год, список его грехов разросся до весьма внушительных размеров. И хотя Перхотин не прочь был выбрать меня в качестве исповедника (смертную казнь отменили, поэтому «исповедь» особыми осложнениями ему не угрожала), я предпочел увильнуть от этого сомнительного удовольствия. «Исповедника» мы ему готовы были подыскать в Московском уголовном розыске. Нас же интересовало только то, что имело или могло иметь прямое отношение к ценностям «Алмазного фонда».
Кустарь и Улиманова были той самой печкой, от которой мы с Бориным собирались плясать. А после показаний Эгерт и некоторых данных, добытых Бориным, расследующим дело об убийстве ювелира, эта печка приобретала особое значение, так как находилась в точке скрещивания двух линий – прошлого и настоящего.
От арестованных предполагалось узнать многое.
Во– первых, каким образом в чулане у Марии Степановны Улимановой оказалось письмо, автор которого упоминал об одной из наиболее ценных вещей «Алмазного фонда» – «Лучезарной Екатерине».
Известно ли Кустарю и канатчице, чье оно и кому адресовано?
Во– вторых, табакерка работы Позье, из-за которой, видимо, и погиб осторожный Глазуков, всегда умевший поддерживать хорошие отношения и с богом и с чертом. Как, когда и через кого она попала к покойному? Кто знал или мог знать об этом? Кому Глазуков собирался ее продать и так далее?
В третьих – экспонаты Харьковского музея, хранившиеся у Глазукова: золотой реликварий, лиможская эмаль, античные камеи, гемма «Кентавр и вакханки» работы придворного резчика Людовика XV.
Не требовалось особого воображения, чтобы представить себе, как они в июне 1919 года оказались в руках бандитов, а затем у моего бывшего соученика по семинарии полусумасшедшего Корейши. Но их путь к сейфу покойного ювелира уже представлялся цепью загадок, видимо имевших какое-то отношение к исчезновению сокровищ «Алмазного фонда».
И наконец, смерть Глазукова.
Прикинув все «за» и «против», я готов был согласиться с Петром Петровичем, что ни Кустарь, ни Улиманова тут не повинны. Более того, вполне вероятно, что убийство Глазукова, сопровождавшееся ограблением покойного, ничего, кроме убытков, им не принесло. Допустим, что так. Но может быть, тогда они помогут нам напасть на след убийц или, по крайней мере, как-то очертить круг подозреваемых? Ведь им виднее, кто мог быть заинтересован в смерти их контрагента.
Короче говоря, на Кустаря и его напарницу возлагалось немало надежд. И видимо, они бы их как-то оправдали, если б не одно обстоятельство, не имевшее, казалось, отношения ни к ценностям «Фонда», ни к убийству ювелира. Я имею в виду возвращение в Москву жены и дочери Зигмунда Липовецкого.
Но не будем забегать вперед и вернемся к Кустарю, который с добросовестностью старательного, хотя и малоспособного ученика пытался ответить на все интересующие нас вопросы. От избытка старательности на его низком покатом лбу выступил пот.
А как иначе? Дело – оно завсегда дело…
Раньше Кустарь находился при ложкарном занятии, затем – при уголовном, теперь – при следственном. Доходным, понятно, не назовешь, а все ж дело…
Вот он в меру своих сил и выполнял требуемое, благо теперь его тюремная камера отвечала самым взыскательным вкусам: ни мазуриков тебе, ни побродяг – только «люди с поведением». Сидеть с такими одно удовольствие: и поговорить приятно, и помолчать.
К сожалению, о письме, которое послужило поводом и возобновлению розыскного дела, Кустарь не мог сообщить ничего вразумительного.
Действительно, попало оно к нему, как мы и предполагали, во время одного из налетов. Но какого именно, Перхотин сказать не мог. Письмо не представляло никакой ценности – исписанный торопливым почерком двойной лист бумаги. Какой с него толк? И не заложишь, и не продашь. Вот кольца в него завернул – какая ни есть польза.
А где кольца раздобыл?
«Кольца те мы в лавке взяли», – объяснил Перхотин.
Золотые кольца, большей частью обручальные, оказались у Кустаря, а затем были переданы им Улимановой после ограбления ювелирной лавки Удриса на Клубной улице в феврале нынешнего года. Эту лавку Кустарь «брал» вопреки своим обычным правилам работать в одиночку, вместе с печальной памяти калужским уголовником Живчиком, который застрелил тогда на Клубной Волжанина, а затем в свою очередь был убит в тот же день на Верхней Масловке, где его пытались задержать наши агенты.
Уж не Удрису ли принадлежало письмо неизвестного? Кольца его – это точно. А вот писулька…
Кустарь потел и смущенно приподнимал свои тяжелые покатые плечи. Очень ему хотелось нам помочь. Но нет, никак не мог он припомнить, каким образом у него оказалась эта бумажка. Ежели бы он знал, что у меня до этого будет интерес, то оно конечно. А так…
Удрис.
Проверка этого предположения оказалась весьма хлопотной. Сам Удрис успел к тому времени помереть, а семья его уехала из Москвы. Поэтому Павлу Сухову пришлось порядком поработать. А итогом кропотливой проверки оказалось короткое слово «нет».
Увы, письмо не имело никакого отношения ни к Удрису, ни к его лавке. К Кустарю оно попало во время какого-то другого ограбления.
Какого же?
Семь или восемь раз нам казалось, что мы уже установили квартиру, в которой налетчик подобрал это письмо. И семь или восемь раз нам пришлось убеждаться в своей ошибке.
Да, с письмом нам не везло. Зато бывший ложкарь и его напарница порадовали нас с экспонатами Харьковского музея и табакеркой Позье. Эти вещи были опознаны ими по имеющимся рисункам. Причем Улиманова заявила, что Кустарь в конце прошлого года или в начале нынешнего передал ей сперва табакерку, а недели две спустя и остальное. Все это было ею продано покойному Глазукову. Кстати говоря, на допросе выяснилось, что член союза хоругвеносцев, сославшись на то, что камни в табакерке поддельные, уплатил канатчице сущие гроши. За бесценок были им приобретены и экспонаты Харьковского музея. Его не смущало, что он имеет дело со своими земляками и старыми клиентами. Увы, честность в торговых сделках никогда не была добродетелью покойного, который, впрочем, вообще не гнался за количеством добродетелей, проявляя тут максимум скромности.
Допрашивая Улиманову, Борин ознакомил ее с описанием всех ценностей «Алмазного фонда». Насколько я понял, сделано это было скорей для проформы. Но дело по розыску вещей «Фонда» вновь одарило нас сюрпризом. Ткнув пальцем в эскиз бонбоньерки для мушек работы Сушкаева – «Комплимент», Улиманова заявила, что «эту золотую коробочку» Перхотин передал ей тогда же вместе с другими вещами, которые были проданы ею Глазукову.
«Перепутала», – решил Борин.
Перед Улимановой разложили фотографии и рисунки двух или трех десятков похожих друг на друга бонбоньерок. Из всех них она безошибочно выбрала шкатулку «Комплимент».
Более того, Перхотин не только подтвердил показания родственницы, но так же уверенно, как и она, указал на бонбоньерку Сушкаева. Опознал ее и приказчик члена союза хоругвеносцев Филимонов. По словам Филимонова, эту вещицу он видел у хозяина в феврале или марте. Глазуков тогда реставрировал ее и хотел продать своему старому клиенту, коллекционеру Марголину. Но сделка по каким-то причинам не состоялась, и дальнейшей судьбы «Комплимента» он не знает. В Центророзыск о бонбоньерке Филимонов не сообщал, так как не знал, что она имеет какое-либо отношение к «Алмазному фонду».
Но самым удивительным во всей этой истории с драгоценностями, оказавшимися у Кустаря, а затем через Улиманову переданными Глазукову, было то, что Кустарь добыл их в одной и той же квартире на Покровке.
«Комплимент», как известно, вместе с «Амулетом княжны Таракановой» («Емелькин камень») и масонским перстнем гроссмейстера русских масонских лож Елагина («перстень Калиостро») был взят из чемодана, хранившегося у Эгерт, Галицким для осуществления екатеринбургской террористической акции.
Знаменитая табакерка работы Позье, принадлежавшая некогда русской императрице Елизавете Петровне, была увезена вместе с другими драгоценностями «Алмазного фонда» будущим начальником отделения контрразведки у «всероссийского верховного правителя Колчака» Винокуровым, посулившим Елене Эгерт свою любовь и земной рай за пределами бывшей Российской империи.