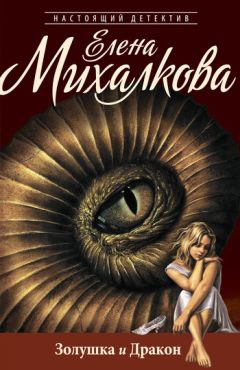– А что там случилось? – прямо спросил Бабкин и по огоньку, мелькнувшему в глазах собеседника, понял, что попал.
– О, такое дело, такое дело! – многообещающе пробормотал Леонид Сергеевич. – Секундочку…
Он повертел головой, углядел на берегу бревно и уверенно пошел к нему, увязая сапогами в песке. Бабкин побрел за ним.
Леонид Сергеевич опустился на бревно, выудил из дальнего кармана пачку «Кента», угостил Сергея и закурил сам.
– Вы, должно быть, знаете, что этот дом – единственный, не принадлежащий нашему пансионату? – спросил врач.
– Нет, впервые слышу.
– Однако это так. Он частный. Около двадцати лет назад Карл Ефимович выкупил у тогдашнего руководства «Рассвета» участок земли и дом на ней. Домик, правда, был поменьше и всего в один этаж. Карл не стал его сносить, а достроил, и получилась эдакая избушка. На курьих ножках.
– Разве это возможно – купить участок у пансионата? – удивился Сергей. – Тем более с домом?
А в те годы, кажется, и землю покупать было запрещено…
– Карл Ефимович был человек не простой, и связей там… – доктор многозначительно указал пальцем вверх, – у него хватало. Председатель райисполкома все-таки, он и не такое мог себе позволить. Ежу понятно, что он ее не купил в прямом смысле слова, но участок ему выделили. А в девяностых, когда все пошло вразнос, Гейдман уже оформил все это дело так, что комар носа не подточит.
– И ему безропотно отдали землю и дом? – усомнился Бабкин.
– А куда людям было деваться? Карл, старый пройдоха, предъявил документы, согласно которым он является наследником графа Вязникова. И пригрозил, что пойдет в суд, если они не договорятся по-мирному, и тогда уж заберет все, до чего сможет дотянуться.
– Он и в самом деле наследник?
– А кто ж его знает! Написать-то можно что угодно, бумага, она все стерпит. Если подумать, то где Николай Александрович Вязников, а где Карл Ефимович Гейдман! Но наверняка утверждать не могу, в жизни всякое бывает. Может быть, Карлуша и впрямь раскопал старые бумаги и решил воспользоваться неожиданно открывшимся родством.
Леонид Сергеевич усмехнулся в усы, и Сергей подумал, что сам доктор слабо верит в такую возможность.
– А что потом? – с интересом спросил он.
– Карл приезжал сюда отдыхать на целое лето. Так мы с ним и познакомились. Кстати, он меня и к рыбалке приохотил. Страстный был любитель этого дела! Разве что по имени каждую рыбу в этом озере не звал. А жена его прекрасно готовила. Когда жарила рыбу, такой запах стоял! М-м-м-м-м…
Доктор закатил глаза и некоторое время сидел неподвижно, заново переживая воспоминания. Прошла минута, и Сергей осторожно откашлялся.
– А? – встрепенулся Леонид Сергеевич, открывая глаза. – Да, так об Агриппине… Если хотите понять всю историю, то начинать придется с этой красавицы. Что, готовы, так сказать, совершить экскурс в прошлое? Или еще по сигаретке – и побредем на завтрак?
Сергей заверил доктора, что готов к экскурсу, а завтрак подождет. Его заинтриговало начало рассказа, а желание найти объяснение увиденному на веранде лишь подогревало любопытство.
– Ну, тогда слушайте. Агриппина, между прочим, была родом из этих мест. Точнее, из поселка, из Вязников…
* * *
1973 год
Будь он проклят, этот поселок! Сдерживая рыдания, Агриппина свернула в проулок, промчалась до знакомого лаза в заборе и нырнула в него, обдирая колени. Вылезла возле поленницы и забилась в укромное местечко за досками, известное только ей, подтянула кровоточащие коленки к подбородку, слизнула соленые капли.
Здесь можно было отсиживаться долго – не найдут. А в то, что преследователи рискнут полезть в лаз, даже если и обнаружат его в зарослях лопуха, она не верила.
Поселок городского типа… Она презрительно сплюнула на лист подорожника и усмехнулась, увидев, что слюна стала красной от крови. Про себя Агриппина, которую звали исключительно Грунькой, произносила это так: «Поселок городского, типа!» С такой расстановкой знаков выходило, что поселок, конечно, деревня деревней, но, типа, притворяется городским.
И жители его притворяются, думала Груня. Все до одного. У-у-у, оборотни!
Травили Груньку не все, а только мальчишки-подростки, но и осуждение в глазах взрослых она принимала за готовность к преследованию. Пожалуй, что и небезосновательно. Старик Прохор Семенович, воевавший в Великую Отечественную, вернувшийся в сорок пятом увешанный медалями и орденами и часто рассказывавший девочке истории из военного прошлого, при встрече с бывшей любимицей теперь переходил на другую сторону улицы, а столкнувшись с Груней нос к носу в магазине, громко и отчетливо сказал: «Шалава!» – и плюнул в ее сторону. И с тех пор плевал в нее, где бы ни увидел. Дошло до того, что Агриппина ходила в поселковый гастроном украдкой, прижимаясь к заборам и готовясь удирать при первом же намеке на встречу со стариком.
А когда живот стал заметен, ее совсем заклевали. Те, кто не считал своим долгом пристыдить, смотрели с молчаливым презрением, или же, подобно озверевшему Прохору Семеновичу, прямо высказывали Груньке мнение о ее моральном облике. Нравы в поселке были строгие, и девочкам в шестнадцать лет беременеть не дозволялось.
Когда Груня, не выдержав, пожаловалась дяде, тот устало взглянул на нее и сказал:
– А ты чего хотела? Сама виновата.
Верно, думала Груня. Сама виновата. Чем мог привлечь ее тридцатипятилетний лысеющий агроном, откомандированный в их поселок на три летних месяца? Что она выдумала, кого вообразила вместо похотливого трусливого человечка, на прощанье сунувшего ей украдкой несколько мятых червонцев? И о чем думала, когда закрывала глаза на все признаки, списывала утреннюю тошноту на несвежую пищу, на жару, на запахи – да на что угодно, кроме того, что было на самом деле?!
Когда она бросилась к поселковой врачихе, было уже поздно. Врачиха, если и имела когда-то представление о врачебной тайне и этике, давно об этом позабыла, и новость о Груниной беременности распространилась по поселку быстрее, чем девушка дошла домой из больницы.
В марте Груня родила. Мелкий, крикливый, болезненный младенец выпивал из нее все соки. С рождения, казалось, у него наметились две залысины, как у агронома, и даже характер прорисовывался похожий: Олежек рос осторожным, трусоватым мальчиком себе на уме.
Агриппина пару раз всерьез обдумывала, то ли ей утопиться самой, то ли утопить ребенка. Жизнь стала невыносима не потому, что была тяжела, а потому, что в ней не было ни единой радости, ни одного просвета. Вопреки собственным ожиданиям, Груня не полюбила сына, и оттого оказалась лишена единственного верного утешения несчастной женщины – утешения в своем ребенке.
От страшного шага ее уберег дядя. Валентин Петрович не мог смотреть, как равнодушно Груня обращается с Олегом, и понемногу сам стал принимать участие в воспитании мальчика. Его сестра, мать Груни, давно умерла, отец был неизвестен, и большая часть тягот, связанных с выращиванием строптивой маленькой девочки, десять лет назад легла на плечи Валентина. Теперь он с таким же тщанием взялся за сына племянницы, который звал его дядей.
Постепенно в сознании жителей Вязников утвердилось это сочетание: Валя и Олежек, большой и маленький. К тому времени, когда мальчику исполнилось десять, он проводил куда больше времени с дядей, чем с матерью. С Валентином Петровичем ему было спокойнее: тот никогда не кричал на него, в отличие от нервной, раздражительной Груни. К тому же дядя работал учителем в школе, много общался с детьми и знал, чем их заинтересовать.
Высокий, худой, с вечной отрешенной полуулыбкой на добром лице, Валентин Петрович разъезжал по всему району на своей старенькой «копейке» и из каждой поездки привозил растения. Много лет он увлекался биологией и мечтал сделать полный каталог травянистых растений средней полосы России. Самый полный! Может быть, даже названный его именем! «Каталог Валентина Чайки»… Думая об этом, Валентин Петрович зажмуривался от удовольствия, и перед глазами его возникал бордовый корешок книги, по которому тянулась золотая надпись. Валентину Петровичу повезло с фамилией – звучной, запоминающейся, – и втайне он был уверен: она может сыграть не последнюю роль в том, чтобы назвать каталог в его честь.
Груня так и не вышла замуж. Рядом с ней не было ни одного понимающего человека, не считая дяди, но тот все свои силы отдал ребенку. И понемногу она совсем одичала. Те, кто поначалу изводил девочку, со временем стали опасаться ее: Груня научилась злобно огрызаться, а самым усердным преследователям могла дать оплеуху.
Когда старый Прохор Васильев, встретив ее в магазине, в очередной раз по привычке плюнул в ее сторону, Груня схватила с прилавка первое, что подвернулось под руку, и пошла на него. Подвернулись счеты. Замахнувшись ими, девушка загремела, будто кастаньетами, но никто не рассмеялся: слишком бешеные стали у Груни глаза, и никто не усомнился в том, что она вот-вот разобьет старые, видавшие виды счеты о голову старика.