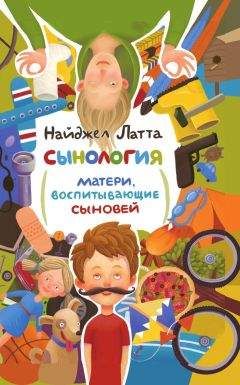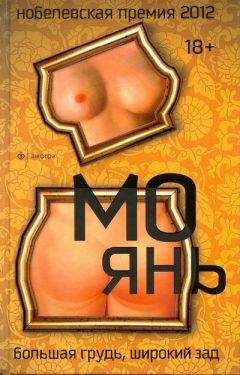Беды исходили от другого родо-племенного колхоза, кочевавшего кругами по степи. Бродячий колхоз еще не успела охватить культурная революция, потому что открыт он был только с помощью всесоюзной переписи, и, прозябая в безграмотности, не имея даже кибитки для правления и мешка с документацией, колхозники считали поля немецких колонистов землей предков и плевать хотели на все резолюции. Часто споры разрешались драками, доходило и до пальбы. Тогда стреляли из всех предметов: из пушек, пулеметов, ружей, луков, рогаток, палок, пальцев, просто говорили: "Бджж!" или "Та-та-та!", желая напугать противника. Кроме того, родо-племенные колхозники, не довольствуясь борьбой за землю предков, воровали немецких девушек. Одной из этих несчастных была и мать Фрикаделины. Жребий, считавшийся волеизъявлением бога Госхалвы, посадил ее в кибитку человека, у которого даже имени не было, все говорили ему "Эй!". Мать -- сама почти девчонка -- умерла при родах, наказав звать ребенка Фрикой. Эйю дочь была не нужна, поэтому младенчество и детство она провела, как Маугли, с отцовскими собаками. Фрика ела из лохани, ловила кости на лету, дралась с соседскими псами, а однажды чуть не угодила на случку, и ей за сопротивление отгрызли пол-уха.
Когда Фрике пошел седьмой год, в родо-племенной колхоз приехал чиновник, обремененный словесными поручениями и письменными инструкциями. Он-то и заметил среди собак девочку... Всем колхозом вспоминали, кто она такая. Вспомнили, что зовут Фрика, что мать ее из немцев, а по имени Аделина, что отец -- Эй; он к тому времени тоже помер за попытку к бегству. "Знаю я тех немцев. У них все фамилии кончаются на "ман", -- сказал чиновник и записал девочку в книгу как Фрику Аделиновну Эйман. Поскольку в родо-племенном колхозе связываться с Фрикой никто не хотел, а до любви она еще не доросла, чиновник -- вот молодец! -- сам помыл ее, одел и отвез немцам. Фрику удочерил Сусанин-майор, но фамилию оставил: он, видимо, предчувствовал, что родной сын женится на приемной дочери. И если такое произойдет, поди тогда, докажи, кровная она Адаму сестра или нет.
Сусанин-постум лет до четырнадцати старался держаться от названой сестры подальше, потому что та была сильнее его и пускала в ход не только кулаки, но и зубы. Он был задумчивый мальчик, поражавший всех спокойствием натуры: не гонялся с другими ребятами на палках-лошадках, скучал в набегах на чужие огороды, стыдился воровать деньги у отца, чтобы проиграть их в "расшибалочку", но часами мог разглядывать витой ставень окна или смотреть на толстую торговку, булгачившую с покупателями.
-- Что ты делаешь, сынок? -- спрашивал отец.
-- Смотрю, как лошадь жует сено, -- отвечал Адам.
-- Что ж тут смотреть? -- удивлялся отец.
-- Да вот именно это и смотреть! -- удивлялся Адам. Потом он перестал ходить по улицам, искать интересное для глаз, и целый день сидел дома с учебником в руках. А чаще лежал на кровати, прикрыв книгой живот, и смотрел в потолок, как на экран в кинотеатре.
-- Папа, мама и Фрикаделина, -- сказал он однажды, -- я должен придумать что-то великое. Я это чувствую.
-- Нас тогда не забудь, -- сказали папа, мама и Фрикаделина.
И скоро -- костюм, готовый улететь с ветром; перекладываемый из кармана в карман аттестат; дерматиновый чемодан, похожий на кирпич с выставки; слезы матери на пиджаке; прощальный щипок Фрикаделины. Отец машет вслед с перрона, Адам отмахивается из окна...
Каждый час радиоточка в поезде торжественно провозглашала новость: если Адам не умрет молодым, то поезд привезет его в коммунизм. Заслушиваясь в ожидании каких-нибудь добавлений и уточнений, он прозевал момент, в который его обокрали. На вторые сутки Адам стал бояться, что умрет молодым, если не подкрепит организм пищей, и решил спать побольше и во сне экономить силы. Проснулся он уже в Ленинграде студентом университета.
Пока Адам учился, один за другим умерли родители...
На похоронах он первый раз увидел Фрикаделину плачущей, а когда вернулся в Ленинград, нашел на столе письмо: "Сынок, приехал бы ты поскорей. Мы совсем плохие стали, еле ходим... А дочь совсем невеста стала, еле держим..."
С тех пор писала одна Фрикаделина и в каждом послании сообщала, что могила и дом в порядке, и в каждом послании спрашивала, за кого выходить замуж.
Вручив диплом филолога-классика, Сусанина распределили в Сворск в среднюю школу учителем литературы и русского языка. Адам был очень недоволен назначеньем, но все его попытки закрепиться в аспирантуре и еще три года валять дурака оказались с отрицательным результатом. И через месяц щеголеватый молодой человек в брюках "труба" покорил пассажиров Сворского вокзала блеском своей неуемной фантазии. Молодой человек прибыл не в одних брюках. С ним был чемодан, доверху набитый деньгами за проданное родовое гнездо, и дикая девушка немецко-тюркского происхождения, Фрика Аделиновна Эйман, которую Адам нежно обнимал за талию. Гораздо нежнее и бережнее, чем чемодан под мышкой.
Сусанин терпел среднюю школу семь лет. Первое время он еще делал попытки удержать себя на волне студенческого уровня, поэтому по ночам зубрил учебники древних языков и из Ленинграда выписывал научные журналы и монографии, расходуя на книги половину зарплаты. Он надеялся, что жизнь, как подброшенная на ладони монета, повернется к нему аверсом и подарит случай, и этот момент, по его мнению, надо встретить во всеоружии знаний и всего того, что необходимо человеку, который собирается занять научную должность в исследовательском институте. Он посылал статьи в межвузовские сборники и пытался через областные инстанции оформить себе заочную аспирантуру в Ленинградском университете. Одно время он даже носил на уроки чемодан, который привез с собой; он был готов в любой момент сбежать из Сворска.
Статьи иногда печатали, с аспирантурой дело не склеилось. Предложили заочную в областном пединституте, но предупредили, чтобы на место в преподавательском составе Адам не рассчитывал -- там не хватало штатных единиц даже для блатных. Сусанин согласился было и на это безрыбье, но ему не смогли подобрать научного руководителя. По его специальности их вообще в области не существовало...
С годами рассеивались связи в научном мире и шансы вернуться в Ленинград, никто уже не посылал Адаму приглашения на конференции, а из вузовских редакций спрашивали, какое научное учреждение представляет А.П. Сусанин. И Адам понял, что в крышку его сворского гроба вбивают последний гвоздь, что как ученый он погиб и будет аккуратно похоронен в каком-то очень скучном месте, вроде садика больницы для умалишенных.
Время этой страшной депрессии, когда Адам целыми днями сидел на дереве возле железной дороги, считал ползавшие тудa-сюда вагоны и мылил веревку, тяжело было пережить ещe и потому, что Сусанина оставили как бы без работы.
В отдел культуры Сворского района пришла из центра директива об учреждении службы по озеленению медных и бронзовых памятников. Заместителем начальника этой службы поставили Адама. Но во всем Сворске не было ни одного металлического памятника, если не считать латунного квадра перед домом, в котором провозгласили новую власть. Поэтому через год службу со штатом в тридцать человек, со служебными машинами, рассадником зелени и банковским счетом пришлось ликвидировать, а гербовую печать и официальные бланки припрятать на тот вполне реальный случай, когда поступит директива ставить на всех улицах памятники из меди и бронзы. Теперь Сусанин оказался не как бы, а просто на улице.
-- Иди обратно в школу, -- советовали ему.
-- Я лучше застрелюсь, -- отвечал Адам и, приставляя указательный палец к виску, добавлял знакомое с детства "Бджж!" -- после чего садился на стул и проклинал белый свет...
Вдруг его сделали директором. Это произошло неожиданнее, чем в сказке, где, кажется, все возможно, но где дальнейший ход событий угадывается по логике повествования и финал очевиден: хорошим людям -- быть царями, плохим -- гнить в болоте. В Сворске, когда туда прибывает новый первый секретарь, никакой ход событий не предскажешь, нет даже уверенности, что вообще будет какой-то ход, хоть на месте. Зато финиш все знают: "Никто не вечен под луной".
Новоявленный первый секретарь тоже окончил один из университетов страны, и гордость университетским образованием распирала его грудь. Только взращенные там орлы годны для власти, считал он. Выяснив, что в доверенном ему районе лишь два человека имеют схожий диплом, одного из них он рекомендовал директором бани, а другого -- типографии, но сначала подержал обоих при себе на должности референта -- так ему понравилось в кругу "орлов".
"Нам нужны на руководящих постах не просто грамотные", но высокообразованные кадры, -- докладывал он на партбюро, -- и я не хочу терпеть заведующим районо человека, который не знает, сколько лет длилась Семилетняя война".
Казалось, Сворск с таким руководством в кратчайшие сроки совершит еще одну научно-техническую революцию и утрет сопли японской промышленности, на худой конец, расцветет садом Академа, в котором философов вырастет больше, чем таксистов и отставных военных вместе взятых. Но ничего, даже отдаленно подобного, не произошло: НТР благополучно завершилась тем, что на химзаводе вместо удобрений стали делать расчески для собак, как и при предпредыдущем секретаре, а культурная революция и вовсе локализовалась в бане, весь персонал которой, включая гардеробщика, имел или получил в процессе работы высшее образование; и заведующий районо продолжал посапывать в кресле, оставаясь в полном неведении о длительности Семилетней войны