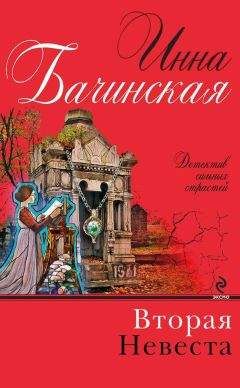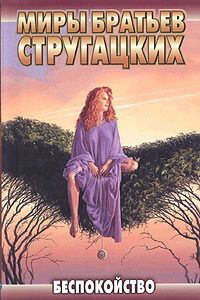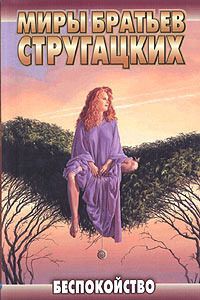Дальше идет провал в мыслях. Не потому, что фантазия буксует, а потому что страшно. Капитан Астахов спрашивал, не могла ли Алина уехать? Куда? К кому? Ссорилась ли с женихом? Может, хотела ему отомстить?
Нет, нет и нет! Алина никогда бы так не поступила, это подлость, Алинка не такая! Она любила Павлика. Полина вдруг понимает, что сказала «любила» в прошедшем времени, и вздрагивает. Подсознательно она приняла смерть подруги, и это пугает ее так сильно, что Полина начинает плакать.
Сестра Алины Тамара звонит ей каждый день, спрашивает, не нужно ли приехать, тоже плачет. У нее трое малышей, их не оставишь. Полина говорит, пока не нужно, пока ничего не известно, как только… как только Алина… Алину найдут, может, она в больнице, потеряла память, она сразу же позвонит, и тогда можно будет приехать. Она лепечет, повторяя одно и то же, успокаивая Тамару, понимая, что сама не верит! Не верит, что Алину найдут! Мысль о гибели подруги вполне абсурдна, но в то, что ее найдут, Полина верит все меньше.
Она достает из сумочки салфетку с нацарапанным номером Федора Алексеева, он сказал позвонить… в случае чего. Она хочет позвонить, хотя сказать ей нечего. Но есть еще одна причина — она боится услышать, что надежды нет, что розыскники прекращают работу, мало ли всего случается, или что, наоборот, Алину нашли, но… И это самое ужасное! Она прячет салфетку обратно.
Полина гонит от себя страшные мысли, повторяя — нет, нет, нет, тряся головой, затыкая уши, зажмуриваясь, но проклятые сцены из фильмов ужасов стоят перед глазами! Особенно плохо ночью — легчайший скрип, едва уловимый шорох, пролетевший невзначай сквознячок — и она покрывается холодным липким потом и замирает, прислушиваясь до звона в ушах…
Капитан Астахов забрал ее фотоаппарат, сказал, чтобы отпечатать фотографии, и до сих пор не вернул. Можно было бы еще раз просмотреть снимки, попытаться увидеть то, что, возможно, не бросилось в глаза сразу, — человек, попавший в кадр дважды, или машина, или… да что угодно! Все сейчас имеет двойной смысл… везде двойное дно.
Полину обжигает мысль, что она может его знать, встречаться с ним каждый день, здороваться… Он — улыбчивый, приветливый, возможно, их постоянный клиент, все они с приветом. Капитан Астахов тоже так считает, выспрашивал дотошно обо всех, и на выразительном его лице была написана брезгливость.
В толпе она уже шарахается от людей…
Впору запереться дома и не выходить. Вечером Полина несколько раз проверяет запоры на двери и выстраивает пирамиды из кастрюль и тазов, чтобы в случае чего… проснуться от грохота. Читает за полночь, до двух, до трех часов, чтобы меньше времени осталось до рассвета. В четыре уже начинает светать…
Если бы Алину нашли, как угодно… стало бы легче, исчезла бы неопределенность, которая сводит с ума.
Успокойся, призывает она себя, ничего еще не известно! Да успокойся же ты! Ради бога! Или уезжай! Возвращайся домой, мама зовет, беспокоится, боится за нее — а вдруг и ее, Полину… в этом проклятом городе! Она бы с радостью, но это будет предательством.
Утром она с трудом поднимается, бредет в ванную, умывается ледяной водой, чтобы окончательно проснуться. Варит кофе, заливает кипятком порошок овсянки, с отвращением заталкивает его в себя. Потом красится, чего обычно не делает. Но сейчас приходится — глаза красные, лицо осунулось и посерело. Значит, тон и румяна. Улыбнись, приказывает она себе. Улыбка получается вымученной. Хорошо хоть работы полно, сидишь в своем кубике, молчишь — разговаривать с клиентами у них не принято. Но тогда мучают мысли.
Утром девочки спрашивают — что нового? Это самое трудное. Пожать плечами, покачать головой, развести руками. Хорошо хоть перестали мусолить и перебирать всякие страшные случаи из газет или услышанное на улице. Время идет, подваливают новые события, у каждого свои проблемы.
Неколько раз звонил Павлик, прибегал, расспрашивал, пытался узнать, кто был у Алины, но Полине казалось, что он испуган и поисками соперника пытается себя успокоить. Он выспрашивал, где они были пятнадцатого июля, последний день, когда она видела Алину, куда ходили, с кем встречались. Она подробно рассказывала, пытаясь успокоить его, а он смотрел недоверчиво, подозревая ее во лжи и укрывательстве.
Теперь Павлик перестал звонить, и Полина думает, что он прочитал ее мысли, ей стыдно, она чувствует, что нужно позвонить ему, поддержать, но рука не поднимается взять трубку. Каждый умирает в одиночку… что-то было такое, книга, кажется. Каждый остается один на один со своей судьбой… в конце концов всегда.
И вместе с тем то, что Павлик не дает о себе знать, как бы подтверждает косвенно… Хватит!
Капитан Астахов расспрашивал об их отношениях, значит, думал о том же.
Федор Алексеев… нужно было держаться с ним приветливее, она отпугнула его своей холодностью, Алинка называла это «цирлих-манирлих», ах, не провожайте меня, ах, не звоните, ах-ах-ах, и вообще отойдите от тела. Дура! Провинциалка! Он хороший человек, сразу чувствуется. Молчит, не дает о себе знать, а она стесняется позвонить сама, хотя, казалось бы, ну что здесь такого? Значит, есть что-то…
Федор понравился ей — вежливый, умный, не стесняется быть смешным, смеется над собой. Без понтов, без выпендрежа. Пришел как клиент, такой вот дурацкий креатив, сказал, промашка вышла, извините, бывает и на старуху проруха. Выдержал сеанс массажа, маску, только сглатывал и держал руки по швам — за целый час не шелохнулся. Полине кажется, что между ними проскочила искра, искорка… совсем маленькая. Значит, ошиблась. Философ… Она улыбается невесело — философа среди ее знакомых еще не было.
Тоска и страх захлестывают ее, она стремительно хватает телефон и набирает номер, который знает на память. В уши немедленно врывается рев толпы, музыка, крики. «Алло! — слышит она голос Федора. — Алло! Алло! Кто это?!»
Она поспешно нажимает кнопку отбоя. Он среди друзей, им весело, музыка… женщины, наверное…
Каждый умирает в одиночку.
Народу собралось тьма-тьмущая. Бизнесмен-меценат Речицкий размахнулся на три ящика коньяку от себя лично. Горели разноцветные фонарики. Люди все прибывали. Закуски, правда, почти не было — Колька Башкирцев пожадничал, решил: раз тусня на его территории, то можно и со своими продуктами. На столах под стенами громадной, как городская площадь, мастерской стояли плетеные тарелочки с орешками, соленым горохом, чипсами, крекерами с крошкой сыра и тому подобной ерундой западного образца. В торце помещался импровизированный бар, который жаждущие грозили взять штурмом и где едва успевал поворачиваться длинный молодой человек в белой рубашке и галстуке-бабочке.
А с другой стороны — вы что, сюда жрать пришли?
Явились мэтры, известные художники и просто художники; пришла молодежь — разномастные мелкие рыбешки и богемный планктон: оформители, дизайнеры, графики, иллюстраторы, театральщики — нахальные и бесцеремонные ниспровергатели канонов. Артистическая богема.
Все или почти все отметились на выставке Корфу и теперь пришли творчески пообщаться в неофициальной обстановке. То тут, то там вспыхивали скорые драчки насчет культурной ценности творчества художницы. Одни считали, что смогут лучше, дайте только пару миллионов на раскрутку, другие — что в ее картинах есть нечто… Настроение, магия, таинство, пограничное и запредельное нечто . Третьи — что Майя Корфу обыкновенная истеричка!
— Мой друг философ Алексеев, — представлял Виталя Щанский Федора, прикладывая его при этом сильной, как у грузчика, рукой, неожиданной для художника, привыкшего к кисти. После чего предлагалось выпить за знакомство. Федор пригубливал слегка — не любил пить в незнакомых компаниях, да и желания не было. Он с удивлением понял, что с нетерпением ожидает появления художницы, и все время поглядывал на дверь.
Майя Корфу и сопровождающие лица запаздывали.
Наконец она появилась и растерянно остановилась на пороге, обводя взглядом толпу. Снова в черном. «Майя Корфу!» — прошелестело по залу, все повернулись и зааплодировали. Она смотрела беспомощно, даже рот приоткрыла от волнения, на шее появились красные пятна. Потом неуверенно помахала рукой — скорее пошевелила пальцами, чем помахала.
— Майка! Лапочка! — ревел Виталя Щанский, прокладывая путь к звезде и таща за собой Федора. — Дай я тебя, мать, от души, по-нашенски!
Он схватил ее в объятия, сдавил, расцеловал три раза. Отодвинул и сказал деловито:
— Мой друг Федор Алексеев! Философ!
Она кивнула. Их глаза встретились, и Федор увидел, что она испугана. Он шагнул вперед, отделяя ее от толпы. К ним уже спешил Речицкий с бутылкой шампанского и бокалами. Пробка взлетела в потолок, шампанское запенилось в бокалах. Он протянул один из них Майе. Она, замявшись, взяла, но пить не стала — держала в тонких пальцах. На них напирали. Речицкого толкнули, и он уронил свой бокал. Федор протянул Майе руку и повел за собой, проталкиваясь сквозь толпу. К счастью, внимание народа переключилось на стриптиз, который закатила нетрезвая гостья, и они беспрепятственно вышли на улицу.