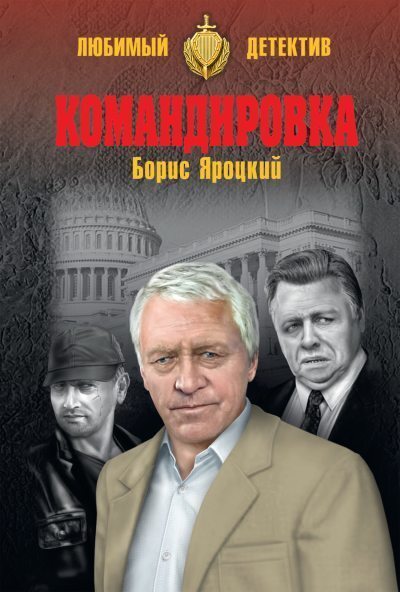Вася не унимался, он был возбужден, на него нашло вдохновение, говорил, что замечал:
— Товарищ майор, и еще одного ключа нет.
— Что за ключ?
— Которым открывают решетку. Не открыв решетки, не попадешь к сейфу.
— А где ключ должен быть?
— Под правым подоконником. Там есть тайничок, но этим тайничком раньше никто не пользовался.
— Тогда и ключа там не должно быть.
— А со вчерашнего вечера — должен. Я его туда положил. По приказу Ивана Григорьевича.
— Кроме тебя, кого он еще посвятил в этот тайничок?
— Женю.
О том, что перед отъездом в Москву Иван Григорьевич посетил в больнице Женю Забудского, Михаил знал, но зачем он сообщил ему, где хранится ключ, все прояснилось только сейчас. Значит, Женю посетил в больнице и тот, кто сейчас лежал обезглавленный.
В дежурке, куда вернулся Спис, дознаватели допрашивали майора Шелудько. Тот возмущался несанкционированным допросом, требовал вызвать представителя прокуратуры.
— Вызовем, — пообещал Михаил. — Но сначала вы назовите того, кого вы пропустили ночью в лаборантскую.
— Он сам проник. У него были ключи.
— Тогда вы зачем?
— Виноват. Проспал.
— А взрывчатку к затылку… не проспали?
Один из следователей заметил, как у майора дрогнули зрачки.
— Молчите, тогда мы вынуждены будем пригласить прапорщика Полупана.
При упоминании этой фамилии Шелудько сник. Многие знали: если подозреваемый попадает в руки этому специалисту, то уже через несколько минут говорит все, что у него запрятано в самые глубинные уголки души. Один вид прапорщика вызывал у подозреваемого животный страх. У Полупана были не руки, а лапы, и когда он опускал их на плечи подозреваемого, следователи обычно покидали камеру — чтоб потом не снились кошмары. Говорили, что прапорщик Полупан доводится то ли внуком, то ли даже правнуком старшины по прозвищу Бармалей. Тот старшина когда-то служил при ленинградской гарнизонной гауптвахте. По свидетельству служивших в Ленинграде в те времена — а это были сороковые — пятидесятые годы, — кто попадал к Бармалею, больше никогда не нарушал воинскую дисциплину. Полупан служил в одной из комендатур Группы войск в Германии. После высылки советских войск из ГДР уволился в запас и вернулся к себе на родину, в Прикордонный, стал бойцом военизированной охраны.
Об уникальных способностях прапорщика Полупана знал полковник Ажипа. «Хлопец, видать, казацкого роду, — говорил он своим ближайшим друзьям. — Подозреваю, что это его предка увековечил Тарас Григорьевич Шевченко в своей знаменитой поэме “Гайдамаки”. А гайдамаки, как известно, от друзей и недругов требовали правды и только правды».
После близкого общения с прапорщиком Полупаном люди, как правило, уже больше никогда не врали.
Шелудько знал, какой это уникальный следователь, — прапорщик Полупан. Охранник признался, что за тетрадь, которую ведут Гурин и Коваль, ему пообещали доллары.
— Мне было велено пропустить умельца и выпустить, — говорил он, уже ничего не скрывая от дознавателей. — А когда ему оторвало пальцы, мне ничего не оставалось…
— А кто велел?
— Не знаю… Мне дали аванс…
Картина несколько прояснялась. За секретами «Гурико» охотилась если не «Экотерра», то любая другая фирма, для которой Гурин и Коваль могли быть конкурентами.
Глава 62
Отец Артемий явился в Прикордонный с новостью. Она предназначалась для Ивана Григорьевича. Гонец подрулил свой «опелек» прямо к дому Анастасии Карповны, надеясь рано утром застать ее хозяина.
— Профессор Коваль здесь поживает?
— Здесь, — ответила Анастасия Карповна.
Перед ней стоял высокий светлобородый священник в коричневой повседневной рясе с массивным серебренным крестом на груди. Она не сразу признала в нем Артема Александровича Чипика, друга Михаила.
— Никак Артем?
Артем с напускной строгостью поправил:
— Отец Артемий.
— Заходи, отец Артемий, гостем будешь, — пригласила в дом хозяйка и тут же похвалила: — А новая форма тебе идет.
— Вы мне говорили, что мне идет и военная, — напомнил гость, переступая порог, подобрав рясу. — Правда, это было давно. Я только закончил Свердловское военно-политическое училище и предстал перед вами лейтенантом-танкистом. В тот год я влюбился в вашу дочь, но она уже любила другого лейтенанта, морского… Как они там, на Дальнем Востоке?
— Не ведаю, Артем Афанасьевич. Ни писем, ни звонков… Разорвали страну — и семьи разрезали по живому. А там у меня уже двое внучат…
— Не печальтесь, Анастасия Карповна, воссоединимся. Обязательно. Наш Бог нас не покинет.
— Ох, твоими бы устами…
— Святая правда. В годину бедствий Бог всегда на стороне бедствующих.
— На Бога надейся… — с грустью вымолвила Анастасия Карповна, кутаясь в пестрый байковый халат, авось гость не заметит раздавшуюся в талии фигуру. Но гость заметил, как только взошел на крыльцо. С веселой искоркой в прищуренных серых глазах сказал:
— Надеемся и сами не плошаем… Да и вы, я вижу, тоже. Настанет день, и я сочту за честь крестить вашего сотворенного любовью Иваныча.
— Почему Иваныча, а не Ивановны?
— Такова воля божья. Полковнику Ковалю на роду написано: богат он будет умными и мужественными сыновьями.
Пройдя в зал и рассматривая неброский интерьер бывшей школьной учительницы, главным образом полки с книгами, гость только здесь сообщил о цели своего визита:
— А я к вам с известием. Надо, чтобы Иван Григорьевич узнал. Сегодня же.
— Что-то случилось?
— Боже упаси! Завтра из Штатов прилетает Эдвард. Возвращается на Украину. Посадка в Шереметьево. Так что отец может встретить сына в Москве.
— И ты с этим известием торопился? Всю ночь был за рулем? Есть же телефон.
— Телефон вещь добрая, — сказал гость. — Но тайное с помощью техники непременно становится явным. В Библии как говорится? Имеющий уши да услышит. Так что нас, разъединенных, охотно подслушивают. Как будто мы у себя дома не хозяева, а подневольные. Раньше объединялись пролетарии всех стран, теперь объединяются всех стран президенты. И против кого? Против тех, кто не желает свое отечество видеть чьей-то колонией. Но, слава богу, народ наш пока еще велик.
— Почему «еще»? — В Анастасии Карповне заговорил историк.
— За свое величие, — продолжал начатую мысль отец Артемий, — народ непрерывно борется каждым человеком. И когда этих человеков, всех вместе и каждого в отдельности, силком ставят у корыта, говоря: это — твое, сумеешь такое же корыто отнять у другого, будешь богаче вдвое, а продашь или пропьешь свое корыто — пеняй на себя, в батраки подашься, — при таком распределении собственности ждать недолго, чем все это кончится. Начинается война за приватизированные корыта: у кого их окажется больше, тот будет и хозяином положения.
— И ты, отче, это проповедуешь своим прихожанам?
— Проповедую, — не скрывал он. — Ссылаюсь, конечно, на Библию. Удивляются, когда узнают, что еще библейские мудрецы предостерегали: если человек признает себя рабом, то есть скотом говорящим, пастыря искать не придется. Он тут же подбирает их сертификаты. Кто завладеет землей, то есть жалкими паями несчастных, тот завладеет и страной. Пока нашу землю не распродали, мы еще великие.
— И прихожане тебя понимают?
— Понимают, достопочтенная Анастасия Карповна. Еще как понимают! Я только теперь вот в этой, как вы изволили выразиться, в новой форме, почувствовал себя истинным политработником. Святое слово, произнесенное неоскверненными устами, что здоровое семя, упавшее на благоприятную почву. А для здорового семени, чтоб оно проросло и порадовало обильным урожаем, требуется время.
В Прикордонном у отца Артемия дел оказалось достаточно и почти все они, за исключением торжественной проповеди в новоотстроенной церкви Святой Марии Днепровской, были связаны с Союзом офицеров.
Уже через полчаса за отцом Артемием приехал Михаил Спис. Первое, что он произнес, было:
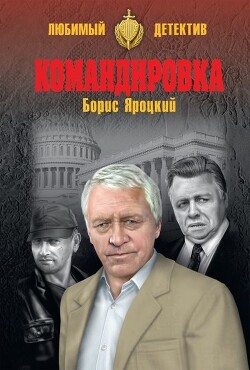
![Командировка [litres] - Борис Михайлович Яроцкий](https://cdn.my-library.info/books/359518/359518.jpg)