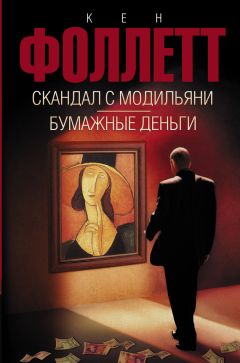Квартира Майка была малогабаритной и обставленной старой мебелью в неопределенном стиле. Если бы ему хотелось чего-то более просторного, он смог бы, несомненно, это себе позволить. Но Ди настояла, чтобы они держались подальше от отелей и фешенебельных кварталов. Ей хотелось провести лето среди французов, а не в окружении космополитической толпы вечных скитальцев на реактивных самолетах, и она добилась своего.
Жужжание бритвы оборвалось, и Ди налила кофе в две чашки.
Майк вошел в тот момент, когда она ставила чашки на круглый деревянный столик. На нем были полинявшие, все в заплатках джинсы «ливайз», а верхняя пуговица синей хлопчатобумажной рубашки была расстегнута, обнажая полоску черных волос на груди и медальон на короткой серебряной цепочке.
– Доброе утро, милая, – сказал он, обогнул стол и поцеловал ее. Она обняла его, прижавшись, и страстно ответила на поцелуй. – Ничего себе! Это было сильно для столь раннего часа, – заметил он, расплывшись в широкой калифорнийской улыбке, и сел.
Ди смотрела на мужчину, благодарно потягивавшего сваренный ею кофе, и раздумывала, хотела бы она провести с ним всю свою жизнь или нет. Их связь длилась уже год, и она начала постепенно привыкать к нему. Ей нравились его цинизм, его чувство юмора, его лихой, с намеком на пиратский, стиль поведения. Их обоих интересовало искусство, и интерес доходил почти до одержимости, хотя его больше увлекала возможность делать на этом деньги, в то время как ее поглощали сложности и детали процесса творчества. Они возбуждали друг друга – в постели и вне ее, – став прекрасной парой.
Он поднялся, налил еще кофе и раскурил сигареты для них обоих.
– Ты необычно тиха, – сказал он своим басовитым голосом с американским прононсом. – Постоянно думаешь о своих результатах? Пора бы им уже прислать их тебе.
– Они как раз пришли сегодня, – ответила она. – Я лишь оттягивала момент вскрытия телеграммы.
– Что? Так зачем медлить? Давай же, мне не терпится узнать о твоих успехах.
– Хорошо. – Она взяла конверт и снова уселась, потом развернула единственный листок тонкой бумаги, просмотрела и подняла взгляд на Майка, широко улыбнувшись.
– Боже мой, я получила круглые пятерки, – сказала она.
Он в волнении вскочил на ноги.
– Ур-ра! – вскричал он с восторгом. – Я так и знал! Ты – гениальна! – И он начал подвывать мелодию, быстро имитируя танец в стиле кантри с Дикого Запада, с воплями «Йя-ху-у!», с подражанием звукам стальных струн гитары, кружась по кухне с воображаемой партнершей.
Ди не могла сдержать смеха.
– Ты самый юный и легкомысленный тридцатидевятилетний мужчина, какого я только встречала в жизни, – выдохнула она.
Майк поклонился в ответ на воображаемые аплодисменты и сел за стол.
– Итак? – спросил он. – Что сие означает? Я имею в виду для твоего будущего?
Ди снова стала очень серьезной.
– Это значит, что пора браться за докторскую по философии.
– Как, еще одна ученая степень? Ты ведь уже бакалавр истории искусств и в придачу имеешь диплом знатока живописи. Не пора ли перестать быть профессиональной студенткой?
– А зачем? Учеба приносит мне удовольствие, и если они готовы оплачивать мне занятия до конца жизни, то почему бы не воспользоваться возможностью?
– Но тебе платят совсем немного.
– Что верно, то верно. – Ди выглядела задумчивой. – А мне, конечно, хотелось бы на чем-то сделать себе солидное состояние. Но у меня впереди очень много времени. Я всего-то двадцати пяти лет от роду.
Майк потянулся через стол и взялся за ее руку.
– Почему бы тебе не поработать на меня? Я стану платить тебе большие деньги – те, которых ты действительно стоишь.
Она помотала головой.
– Не хочу въехать в рай на твоих плечах. Мне надо всего добиться самой.
– А по-моему, ты кое-где с удовольствием на мне катаешься, – ухмыльнулся он.
Она бросила на него притворно косой взгляд, но потом согласилась:
– Я это дело еще как люблю! – сказала она, подражая его акценту, однако сразу же отняла руку. – Но все же я напишу диссертацию. А если она удостоится публикации, срублю на этом приличных деньжат.
– На какую тему?
– Ну, у меня есть пара идей. Наиболее многообещающе выглядит тема взаимосвязи творчества и наркотиков.
– Отличная дань современной моде!
– И тем не менее оригинальная. Думаю, удастся показать, что злоупотребление дурманом полезно для искусства, но губительно для художников.
– Превосходный парадокс. Где начнешь работу?
– Здесь. В Париже. Местное артистическое сообщество начало курить травку еще в первые два десятилетия XX века. Только называли они ее гашишем.
Майк кивнул.
– Не откажешься от небольшой помощи с моей стороны, чтобы было от чего оттолкнуться?
Ди потянулась к пачке сигарет и достала себе одну.
– Конечно, не откажусь, – сказала она.
Он дал ей прикурить от своей зажигалки.
– Есть один старик, с которым тебе просто необходимо пообщаться. Он дружил с добрым десятком выдающихся мастеров, живших здесь еще перед Первой мировой войной. Пару раз он наводил меня на след очень хороших картин. От его деятельности тогда слегка разило криминалом. Он, например, поставлял проституток в качестве натурщиц – хотя и для других услуг тоже, – молодым живописцам. Теперь сильно одряхлел. Ему, вероятно, уже за девяносто. Но память его не подводит.
В крошечной гостиной, одновременно служившей спальней, стоял не слишком приятный запах. Вонь из расположенной на первом этаже рыбной лавки проникала повсюду, сочась сквозь ничем не покрытые доски пола, впитываясь в побитую старую мебель, в простыни односпальной кровати в углу, в выцветшие портьеры на единственном небольшом окне. И дым трубки старика не перебивал рыбных запахов, но лишь подчеркивал унылую атмосферу комнаты, где слишком редко делали уборку.
Зато по стенам висели полотна постимпрессионистов, стоившие целого состояния.
– Все это подношения от самих художников, – небрежно пояснил старик. Ди пришлось напрягаться, чтобы понимать его тяжелый парижский диалект. – Им вечно не хватало денег, чтобы заплатить долги. И я охотно брал картины, зная, что наличных у них не будет никогда. Но в то время я еще не любил всю эту живопись. Только теперь, понимая, почему они писали именно так, мне стали нравиться их работы. К тому же каждая пробуждает воспоминания.
Этот человек был уже совершенно лыс, а кожа на лице побледнела и обвисла. Низкорослый, он передвигался с трудом, но его маленькие черные глазки порой вспыхивали искренним энтузиазмом. Ему придало сил общение с этой миленькой англичанкой, хорошо говорившей по-французски, а улыбавшейся ему так, словно он снова был молод и хорош собой.
– Вас не слишком часто беспокоят желающие приобрести ваши холсты? – спросила Ди.
– Больше не беспокоят вообще. Но я сам одалживаю картины на время за определенную плату. – В его глазах промелькнули плутовские искры. – Так я могу покупать необходимый мне табачок, – добавил он, воздевая трубку вверх, как бокал, чтобы произнести тост.
Только после этой реплики Ди поняла, какой запах ощущался наряду с обычным табачным: хозяин курил смесь с марихуаной. Она кивнула с видом знатока вопроса.
– Не желаете попробовать? У меня есть все для этого, – предложил он.
– Спасибо, не откажусь.
Он передал ей жестянку с табаком, лист сигаретной бумаги и небольшой кубик смолы. Ди принялась скручивать для себя косячок.
– Ох уж эти молодые девушки! – умиленно произнес старик. – На самом деле наркотики для вас вредны, конечно же. Не надо бы мне соблазнять неискушенных. Сам я курил это всю сознательную жизнь, и мне уже поздно что-то менять.
– И тем не менее вам наркотики не помешали прожить долго, – заметила Ди.
– Ваша правда. Мне в этом году стукнет восемьдесят девять, если не ошибаюсь. И семьдесят лет я курил свой особый табачок каждый божий день, если исключить срок в тюрьме, разумеется.
Ди облизала край пропитавшейся смолой бумаги и закончила трудиться над самокруткой. Прикурила от маленькой позолоченной зажигалки, вдохнула дым.
– Художники употребляли тогда гашиш в больших количествах? – спросила она.
– О, да. Я сколотил на нем огромные деньги. Некоторые тратили на него все до последнего гроша. Дедо[1] страдал от этого больше всех, – добавил он с отстраненной улыбкой и бросил взгляд на карандашный набросок на стене, с виду поспешно выполненную зарисовку женской головки – овал лица и удлиненный тонкий нос.
Ди разглядела подпись под скетчем.
– Модильяни?
– Да. – Глаза старика видели сейчас только прошлое, и разговаривал он будто бы с самим собой. – Он всегда носил коричневый вельветовый пиджак и большую фетровую шляпу с обвисшими полями. Любил говаривать, что искусство должно оказывать на людей воздействие, подобное гашишу: открывать им красоту, ту красоту, которую они обычно не умеют разглядеть. А еще он много пил, чтобы видеть уродливость вещей. Но любил он только гашиш. Грустно было слышать его размышления на эту тему. Насколько я знаю, его воспитывали в строгости. Кроме того, он отличался хрупким здоровьем, и его тревожило употребление наркотиков. Тревожило, но не мешало ими пользоваться до самозабвения.