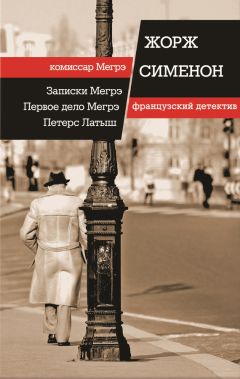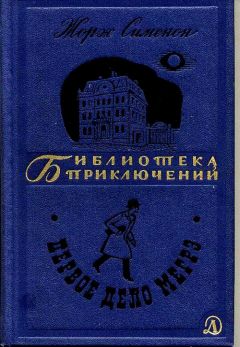Я попытался возразить:
– Остальные недовольны.
– А я пишу романы не для нескольких дюжин служащих криминальной полиции. Когда автор пишет книгу об учителях, что бы он ни делал, недовольными останутся десятки тысяч учителей. То же самое произошло бы, если бы кто-нибудь взялся описывать жизнь начальника станции или машинистки. Так на чем мы остановились?
– На различных видах правды.
– Я пытаюсь вам доказать, что моя правда – единственно верная. Хотите еще один пример? Нет никакой необходимости проводить все дни напролет в этом здании, как это делал я, чтобы узнать, что криминальная полиция, являющаяся частью полицейской префектуры, имеет право вести дела только в пределах Парижа, и лишь в некоторых случаях – в департаменте Сена. Однако в романе «Господин Галле скончался» я рассказываю о расследовании, которое велось в Центральном районе Франции. Вы ведь туда ездили, да или нет? Разумеется, да.
– Я туда действительно ездил, и это правда, но в то время, когда…
– В то время, когда вы весьма недолго работали не на набережной Орфевр, а на улице Соссэ. Но зачем морочить голову читателям всеми этими административными тонкостями? Иначе в начале каждой книги, повествующей об определенном расследовании, необходимо будет давать пояснения: «Это происходило в таком-то году. Следовательно, Мегрэ в это время служил там-то». Позвольте мне закончить…
Он строго придерживался своих воззрений, но понимал, что намеревается затронуть мое слабое место.
– Скажите, вот вы по всем вашим привычкам, вашему поведению, вашему характеру являетесь человеком набережной Орфевр или улицы Соссэ?
Прошу прощения у всех моих коллег из Сюрте, среди которых у меня немало добрых друзей, но я не открою никакой тайны, утверждая, что между этими двумя ведомствами всегда существовало, мягко говоря, некое соперничество.
Следует также отметить, и Сименон с самого начала это понял, что в ту пору существовало два типа совершенно разных полицейских.
Те, кто служил в ведомстве на улице Соссэ, напрямую зависящем от министерства внутренних дел, в той или иной мере были вынуждены заниматься делами, связанными с политикой.
Я их ни в чем не упрекаю. Я лишь признаюсь, что если говорить обо мне, то я предпочитаю с подобными вещами не связываться.
Наше поле деятельности, работников набережной Орфевр, возможно, более ограниченно, мы ближе к низам общества. Мы и в самом деле довольствуемся тем, что занимаемся всевозможными злоумышленниками – всем тем, что включает в себя понятие «полиция» с уточнением «уголовная».
– Вы не можете не согласиться со мной, что вы – человек набережной Орфевр. Вы этим гордитесь. И что же! Именно я превратил вас в человека с Набережной. Я попытался создать истинное воплощение сотрудника криминальной полиции. И стоит ли из-за подобных мелочей, объяснимых лишь вашим помешательством на точности, делать созданный образ менее четким, попутно объясняя, что в таком-то году по ряду причин вы поменяли одно ведомство на другое, что позволило вам работать во всех уголках Франции?
– Но…
– Минуточку. В день нашего знакомства я заявил вам, что являюсь романистом, а не журналистом. Я также отлично помню, как обещал месье Гишару, что никогда не стану болтать лишнего и не допущу в моих произведениях даже малейшей бестактности, которая сможет нанести вред полиции.
– Я знаю, но…
– Черт побери, Мегрэ, да дослушайте же меня!
Впервые он назвал меня по фамилии. И впервые этот мальчишка велел мне замолчать.
– Я изменил все фамилии, кроме вашей и еще двух-трех ваших сотрудников. Я не поленился и изменил все названия населенных пунктов. Иногда, ради пущей предосторожности, я менял все детали, касающиеся семейных отношений персонажей. Я упрощал все, что можно было упростить: вместо четырех или пяти допросов, проведенных вами, я описывал только один; я оставлял две или три версии преступления, хотя у вас вначале их было не менее десяти. Да, я утверждаю, что прав именно я и что лишь моя истина верна. Я принес вам доказательства.
И Сименон указал на кипу книг, которые он положил на мой стол сразу же по приходу и на которые я не обратил до сих пор никакого внимания.
– Это книги, написанные за последние двадцать лет специалистами по вопросам уголовного права, достоверные рассказы, та самая правда, с которой вы так носитесь. Прочтите их. Большинство дел, столь скрупулезно описанных в этих изданиях, вам знакомо. И что же? Готов держать пари, что вы их не узнаете, и все из-за стремления авторов к ложной объективности, к той правде, которая всегда, слышите, всегда должна быть простой. А сейчас…
Ну, довольно! Я предпочитаю сразу перейти к признаниям. Именно в тот момент я осознал, что ему удалось задеть мое больное место.
Черт побери, он был прав, прав во всех пунктах, которые только что перечислил. Мне было решительно наплевать, что писатель сократил количество инспекторов, что он отправил меня ночью под дождь вместо моих подчиненных, что вольно или невольно перепутал Сюрте с криминальной полицией.
А вот что меня задело больше всего и в чем я не хотел признаваться даже себе самому – это…
Боже мой, как же трудно! Вспомните о том, что я писал о господине, разглядывающем свою фотографию.
Возьмем такую деталь, как шляпа-котелок. Пусть я выставлю себя на посмешище, однако признаюсь, что эта дурацкая мелочь заставила меня страдать больше, чем все остальные описания, вместе взятые. Когда юный Сим впервые явился на набережную Орфевр, в моем шкафу действительно хранился котелок, который я надевал лишь в крайних случаях: на похороны или официальные церемонии.
Но так уж случилось, что в моем кабинете висела фотография, сделанная несколькими годами ранее во время не помню какого конгресса. И на снимке я был изображен в этой проклятой шляпе.
Чего мне стоит даже в наши дни слышать от совершенно незнакомых людей, которым меня представляют, сакраментальную фразу:
– Ну надо же! Вы сменили шляпу.
Что касается знаменитого пальто с бархатным воротником, то по этому поводу Сименону однажды пришлось объясняться не со мной, а с моей женой.
Не буду спорить, у меня было подобное пальто. Возможно, у меня их было даже несколько, как и у любого мужчины моего поколения. Вероятно, мне приходилось году в 1927-м, в особенно холодный или дождливый день, снимать с вешалки одно из этих старых пальто.
Я не франт. Мода меня мало заботит. Но, быть может, именно из-за этого я ужасно не люблю выделяться из толпы. И мой скромный портной-еврей с улицы Тюренн также не желает, чтобы прохожие на улице оборачивались мне вслед.
«Разве я виноват, что вижу вас именно таким?» – мог бы ответить мне Сименон, словно художник, который наделяет натурщика кривым носом или косящими глазами.
Только вот вышеуказанному натурщику не приходится проводить всю свою сознательную жизнь рядом с этим портретом, а тысячи людей не начинают свято верить, что у него и в самом деле кривой нос или косые глаза.
Но в то утро я не стал делиться с Сименоном этими мыслями. Стыдливо глядя куда-то в пространство, я произнес:
– Разве было необходимо упрощать и меня тоже?
– Сначала – конечно, да. Нужно, чтобы публика привыкла к вам, к вашему силуэту, к вашей походке. Мне удалось подобрать точное слово! В настоящий момент вы пока только силуэт: спина, трубка, манера двигаться, ворчать.
– Спасибо.
– Постепенно появятся другие детали, вот увидите. Я не знаю, сколько времени для этого потребуется. Мало-помалу вы заживете более сложной, насыщенной жизнью.
– Это успокаивает.
– Например, до сих пор никто ничего не знает о вашем семейном укладе, в то время как бульвар Ришар-Ленуар и мадам Мегрэ составляют добрую половину вашей жизни. Пока вы только звоните домой, но скоро читатель вас там увидит.
– В халате и домашних тапочках?
– И даже в постели.
– Я ношу ночные рубашки, – иронично заметил я.
– Знаю. Это дополнит образ. Даже если бы вы любили пижамы, я бы все равно вырядил вас в ночную рубашку.
Я до сих пор задаюсь вопросом, чем бы мог закончиться этот разговор – вероятно, яростным спором, – но тут мне сообщили, что некий осведомитель с улицы Пигаль хочет поговорить со мной.
– В конце концов, – сказал я Сименону, когда он, прощаясь, протянул мне руку, – вы собой довольны.
– Пока еще нет, всему свое время.
Разве я мог объявить писателю, что отныне запрещаю использовать мою фамилию? По закону – да. И это бы послужило поводом к началу того, что многие называют «истинно парижским процессом», во время которого я бы выставил себя на посмешище.
Да, персонаж Сименона сменил бы имя. Но, тем не менее, он все равно остался бы мной – точнее, упрощенным мной, который, если верить автору, постепенно будет усложняться.