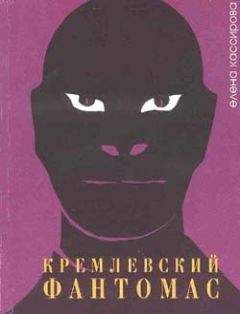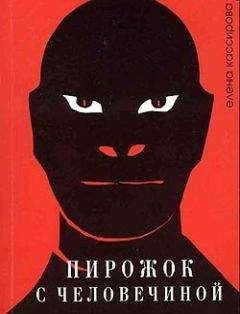Кусин был лишь вызван и пуган.
Ребят посадили, а Борис бежал в Москву.
А там ни кола, ни двора.
В поисках твердой почвы Боря крутился в редакциях, попался Порфирьеву, тот взял над ним шефство, но напечатать его не успел – Кусин отправился наконец по этапу.
Вернулся Борис Сергеевич инвалидом и устал. Молодое прошлое как отрезало. Но комплекс провинциала Кусинстарик не изжил. Он уважал научную интеллигенцию и был демократом – в смысле говоруном и риториком.
Жил Борис Сергеевич один. Он не женился из больного самолюбия инвалида.
– Значит, вот, Костя, какие дела, – прошипел он.
– Да, такие, – пришлось ответить Косте вместо того, чтобы спрашивать самому.
– Ну, что, посадили их?
– Кого?
– Новых ваших русских. Потехина с Ивановым.
– Да разве ж убивали – они?
– Они, не они! Всё равно одна шайка.
– Какая шайка?
– Какая ж у нас шайка! Кремлёвская.
– Что вы, Борис Сергеич, – удивился Костя. – Вовка с Кремлем не связан.
– Не связан! – яростно зашептал Кусин. – А что бы он мог без них! Нахапали новые правители, теперь заметают следы.
– Но при чем здесь Роза с Паней?
– Язык у старух длинный. Ворчат они, народ возмущают. А народ за старух горой.
– Но Роза не ворчала.
– Ну, Паня. Она ж уборщица, всю ж подноготную видела. А с Розкой она делилась. Розку Паня любила. Небось, за твоей бабкой не ходила так.
– Вообще никак. Не захотела.
– Короче, смерть старухам! – просипел он, брызгая слюной. – Вон, и у тебя бабка ворчит, и соседки твои брюзжат, генеральша с дочкой.
– Лида с Маняшей – да, но бабка не ворчит, она еле говорит. Она после инсульта.
Костя автоматически отвечал, но на слове «инсульт» опомнился. Он пришел сам спрашивать, а сидит, как на допросе. Ишь, Кусин, старый конспиратор, хитрец.
– Борис Сергеич, я же принес вам порфирьевские книги. И тортик.
– Тортик, – зашипел Кусин, – какой еще тортик? Мои это книги, а не Порфирьева!
– Как – ваши?
– А так. «Большое время» – мой роман! Я написал! «Большое бремя». Порфирьев меня посадил, а роман напечатал под своим именем. Одну букву переделал. Да еще мне, гад, сказал: «Ты химик, вот и похимичь на химии». Я и химичил семь лет. Отхимичил себе всё на хрен.
– Зато сохранили честь, – сказал Костя.
– Много ты знаешь.
– Это все знают. Лучше химичить, чем подписывать позорные письма.
– Я и писать разучился.
– Слуцкий, как подписал против Борис Леонидыча, тоже разучился.
Кусин выпустил пар и приятно обмяк. Сосудистая краснота сошла с его лица и шеи.
– Чайку, что ль, – шепнул он. Слюной он уже не брызгал.
– А книги, Константин, забирайте. – Знать не знаю никакого Порфирьева. Я и к Розке-то ходил из мести. Она, как видела меня, так вспоминала, что муж ее – говно. Я его книг и на подтирку не возьму. Говном жопу не подтирают.
«Что же такое внутренний голос? – задумался Костя, волоча коробку с Порфирьевым обратно к „Чертановской“.
В конце концов, его, если понять его суть, можно использовать как компас.
Вернувшись, Касаткин раскрыл словарь Даля и перечел статью «Голос». «Голос, как в жопе волос, – пояснялось в конце статьи, – тонок, да нечист».
Перед сном Костя набрал Катин номер. Ди-и-инь. Ди-и-инь. Ди-и-инь.
– Ну, допустим, убить старух мог любой из наших, – говорил Костя, пока раздавались гудки. – Но из-за выгоды, даже крупной, нормальный не убьет. Тем более жалкую уборщицу.
В трубке повторялись звонки.
– А нормален ли Блевицкий? А Иванов? А Потехин? А Джамиля? Да взять того же Хабибуллина. Джозеф тоже гусь. Мягко стелет, а дверь захлопнул перед носом.
Неужели прав Кусин? Неужели сильные мира сего воюют с недовольными старыми перечниками? Но у нас ворчат все. Тогда – кто следующий? Брюхан? Фомичихи? Нет, исключено!
На том конце провода сняли трубку и тут же положили на рычаг. Пи-пи-пи-пи-пи.
15
«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ ВЕЮТ НАД НАМШ
Старухи старухами, а, вообще, в июле жизнь остановилась. Прошлым летом было наоборот. Экономика, казалось, вот-вот даст дуба. И газетам поэтому жилось хорошо. То аграрии наделали агрооблигаций и отказались платить, то шахтеры ели стряпню москвичек и мороженое в пикете у Белого дома, и падали акции. А в это лето подозрительно ничего не случалось. Даже тележурналистки Царапова и Морокина занялись незначительным. На их ток-шоу обсуждалось, дорог ли билет в Кремль.
Но действительно ньюсмейкерами теперь стали туристы. Многолюден был лишь Манеж.
Газеты принялись обсуждать Манежный подземный торговый центр. Оказалось, он нарушил экологию. Воды пошли подмывать Кремль. Часть Дмитровки уже рухнула, а Дом Пашкова стоит на соплях.
– Абиватэли интэрэсуются, – сказал этосамовцам Блавазик.
– Обыватели всегда интересуются всем э-э-эта-ким, – пренебрежительно пропела Виктория.
– А «Эта Самаэ» и эсть этакаэ, – уточнил шеф. – Нэобъяснимаэ! Дух! – добавил он и воздел руку с перстнем.
– То есть канализация, – насмешливо сказал Борисоглебский.
– Ладно, – сказал Костя. – Канализация, так канализация.
Петросян уехал отдохнуть. Это было в понедельник, 11 июля.
Нестерпимая жара кончилась, стало ровно жарко, каникулярно и просторно. Казалось, между небом и землей разгулялся, и правда, чей-то дух. Время высвободило место для событий особенных.
И все случилось.
12-го Костя договорился с диггером Рахмановым Михаилом о спуске. В мэрии им не разрешили бы, но неважно. На всякое «нет» в новые времена, если спорить и судиться, находилось «да».
Рахманов гулял под землей как самочинный подземный смотритель. Ему никто не мешал.
Тип он был эффектный, с косичкой. Телевидение показывало его с удовольствием и тем самым как бы охраняло его.
Вообще-то Рахманов стал героем в славные дни белодомовского противостояния. Рассказывал он о подземных чудесах. Видел он, дескать, как под Кутузовским выводили кого-то. Говорил и о крысах в человеческий рост. Рахманов, понятно, искал славы, точней, спонсоров.
Служить Рахманов не хотел. Так и бродил под городом. Рябой, хмурый, с косицей, в черной ветровке.
Касаткин мог вообще не спускаться. Блавазик разрешил бы ему просто нафантазировать. Но Костя любил факт.
С Мишей Рахмановым Касаткин встретился днем 13-го у памятника Марксу. Утром Рахманов не мог. Странная занятость у подземного бродяги!
Однако время спуска оказалось очень удачно: после жары хлынул дождь. Народ разбежался.
Сквер опустел. Вдобавок вокруг шла стройка. В данный момент она была заморожена. Но сквер был огорожен бытовками друг на друге в два этажа. С обеих площадей ничего не видно.
На лавке у памятника сидел лишь сонный хмырь.
Касаткин и Рахманов встали у каких-то щитов и досок, открыли люк, спустили лесенку.
Условились так: Костя спустится, пройдет метров пятьсот, Рахманов откроет ему люк и скинет лестницу в Александровском, в тихом местечке на травке, где когда-то Мальков сжег останки Фанни Каштан.
Костя натянул черную снайперскую шапочку, слез и осмотрелся.
Под ногами чавкало, где-то внизу шумела Неглинка.
Кружок неба и человеческое лицо вверху исчезли. Стало жутковато. Но жуть быстро прошла.
Костя ожидал клоаку, трупы и черепа. Подванивало.
Инженер-пионер Левачев в прошлом веке писал, что было там, как в аду.
Но нет, сейчас ничего такого.
Безвестные советские рабочие постарались. За сто лет ад стал почти раем.
Армейский фонарь не понадобился.
Просторный ход.
Если встать лицом к Кремлю – налево и вниз ответвление к Лубянке и Мясницкой. Писали, что там – сталинский сектор. Сталин живал там.
Прежде Касаткин спрашивал Рахманова, каков сталинский туннель. Рахманов не ответил, но, получив от Кости сотенную, четко сказал:
– Люкс. Люстры, ковры, плевательницы и пальмы.
Касаткин встал спиной к Мясницкой.
Вокруг гул метро и наверху ливень.
Туннель широк, ровен и относительно чист. Что чего подмоет? Подземные сталинские многоэтажные хоромы не нарушили тектоники Чистых прудов. Подземный лужковский магазин – всего-навсего в три этажика.
Кучки под ногами и налет на стенах и своде рассматривать было ни к чему. Все тут хожено-перехожено. Гул вод и трансформаторов успокоил Костю.
Еще десять шагов – и облило дождевой струей из незримого уличного отверстия. Костя перешагнул, кажется, мышиный скелетик, дошел до развилки, поднял какую-то штучку. Она блестела, как гривенник на асфальте.
Рукав туннеля опять уходил налево к мавзолею, а Косте следовало идти прямо еще триста метров. Опять кружок света с рахмановским лицом наверху и темнеющий в перспективе, вдоль Кремля, путь по прямой.
Касаткин вылез, отпустил Рахманова, потоптался на травке, особенно в этом углу густой, шелковой и зеленой – видимо, от каплановского удобрения. И наконец он разжал, замирая, кулак.