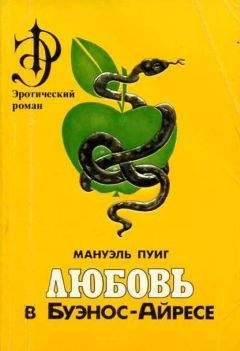И вот пик Деревацкой остался стоять на месте после пятьдесят шестого, когда исчезли даже пики Сталина, Жданова и Молотова. И стоит по сей день, хотя нет уже никакого Союза, и крестный отец одной из гор Феликс Дзержинский давным – давно превратился в Омара Хаяма, а очутившийся по другую сторону границы пик Урицкого обернулся столпом Конфуция, если конечно разобраться в иероглифах. Вот так любовь географа Деревацкого пережила века, эпохи и империи.
Неторопливо ведя своего осла в поводу, Владик Коровин рассказывал все это Ирине, которая совсем уже окоченела в своем дамском седле. К концу рассказа она откровенно разревелась, очевидно от холода. Зато рассказ пришелся очень по душе разрумянившемуся больше обычного на морозе Ван Хаартману. Хлопая рукавицами по бедрам своего мула, он заорал «Я – а!», и, поскольку ехал впереди всех, простым поворотом поводьев направил всю экспедицию в глубокий снег. Старик Тойли, который с трудом нашел нам безопасную тропинку в долину, чуть не разрыдался следом за Ириной.
Тут Плавич оторвалась от виртуального пространства и назидательно сказала мне, что обижать людей, которые тебе доверились, нечестно и неправильно.
3 ноября.
Очень глубокий снег. Надо было слушаться Тойли.
7 ноября.
Мы, кажется, спустились с пика Екатерины Деревацкой. Студент отстал. Он утверждает, что сегодня великий праздник, и решил оставить на вершине красный стяг из лыжной палки и шарфа золотопромышленника Закса, чтобы почтить память наркома Урицкого. Артур Закс стоит рядом со мной, и мелко дрожит от сдерживаемой ярости. Я вижу, что экспедиция не доставляет ему удовольствия. Один из ослов пал при восхождении. Хорошо себя чувствует только Ван Хаартман и его мулы.
По – моему, все катится в пропасть. Это я почувствовал, когда увидел, что Борис стреляет у Закса папиросы.
8 ноября.
Я отпустил своего бывшего друга Артура Закса с миром. Беседа в палатке длилась всю ночь. Он признался мне, что курс платины к золоту резко подскочил как раз накануне нашего выступления. Он сообщил мне, что профсоюзы артельщиков на Алдане устроили итальянскую забастовку. Он всячески заверял меня, что по – прежнему интересуется древними цивилизациями и все так же благодарен мне за лучшие дни в его жизни, шесть месяцев, когда он не курил. Но он чувствует, что его гайморовы пазухи уже не восстановятся, и телекинез с левитацией – это не для него.
Я видел, что он кривит душой, но не сказал этого. Крепко пожал ему руку и напомнил, что у каждого своя дорога.
В конце концов и ослов у нас теперь только пять.
9 ноября.
Ночь.
Семейный скандал в палатке Ван Хаартманов. Сквозь рев бури я слышал плач Ирины и ее крики «Ложь! Ложь! Обман!». Эти слова она произносит так же напевно, как и свои вечные «Возможно» и «Безусловно».
8 часов 15 минут утра.
Когда я с трудом отодвинул снег от двери палатки и вышел, в бледном рассвете, на молочно розовом снегу я увидел черное пятно – халат старика Тойли. Судя по нерастаявшему кругом снегу, старик всю ночь просидел в состоянии саматхи – близком к клинической смерти, когда душа медитирующего, по слухам, отделяется от тела и путешествует в параллельные миры. При моем появлении он медленно открыл щелки своих глаз и внезапно на чистом русском языке произнес: «Вижу зло. Вижу много зла за южными горами. Оно скоро будет здесь. Духи реки не пустят нас». Я принялся его тормошить, но старик был холоден, как лед, и снова зажмурился. Я уверен, что придя в себя, он не вспомнит ни единого русского слова. Подобный феномен описан в литературе.
Какие‑то черные птицы стаями собираются на отрогах пика Деревацкой.
10 часов
Старик все еще сидит между палатками, его приходится обходить при приготовлении пищи. Ван Хаартманы появились из своей палатки. У Ирины заплаканное лицо, а этот румяный боров весел и бодр, как всегда, и желает прогуляться до завтрака. На что сложный человек Плавич, и та сделала ему замечание. Но профессору Хартману хоть кол на голове теши. Достало меня писать это дурацкое двойное «а».
11 часов
Хартман‑таки ушел вниз по склону. У Закса жар, его продуло на горе, он очень хочет уехать, буквально бредит Братском. Евгения сварила всем какао, и добавила туда по ложечке виски. Сидим тесным кружком у палаток, греемся. На Тойли холодно даже смотреть. Владик пытается развлекать нас анекдотами из жизни героя Антарктики, Роберта Скотта.
В полдень послышался мотоциклетный треск и прямо по глубокому снегу к нам подкатил новенький красный снегоход, весь в китайских иероглифах и целллофановой пленке. За рулем восседал героический Хартман, самодовольства которого хватило бы на десяток ковбоев. На резонный вопрос Евгении, что сей цирк означает, он, коверкая слова больше обычного, объяснил, что нашел снегоход в двух километрах отсюда, занесенный снегом. Шел, знаете ли, шел, и саночки нашел.
Я пытался втолковать, что это не наш снегоход, что брать чужое нехорошо, что у нас будут неприятности с китайскими властями. Разумеется ответом было «Я – а!». Мулы так и шарахнулись от рева этого механического чудовища, а Тойли снова открыл глаза, на этот раз широко, и махнул рукой на юг, словно чертей отгонял.
– А кто со мной прокатиться? – орал тем временем наш смелый наездник. Боря? Агей?
Что характерно, ни одной из дам голландец места на снегоходе не предложил. Агей, очевидно стесняясь отказать человеку, у которого вчера одолжил трубку покурить, неуверенно уселся позади развеселого профессора. Такими они и запомнились мне – румяный, очкастый Хаартман, и бородатый работяга в ватнике, с гитарой за спиной.
15 часов.
Над нами завис вертолет с гербом города Братска и красным крестом на дверцах. Вместо лыж у него шасси, и садиться пилот не рискнул, просто выбросил веревочную лестницу. Насколько можно судить по маневрам, пилот сильно нервничает, понимая, что пересек несколько государственных границ, и ему еще домой возвращаться. Сотрясаемый ознобом Закс полез по шатающимся в воздухе перекладинам, на верхней задержался, и обращаясь ко мне крикнул:
– Алишер, ты мне ничего не должен!
Должно быть, он хотел меня обрадовать.
Где‑то в горах слышится долгий тоскливый гул. Возможно сотрясение воздуха винтами вертолета вызвало сход лавин.
18 часов
Обходя лагерь, обнаружил целую груду окурков «Честерфильда». Такое бывает, когда вытряхивают консервную банку, использованную неоднократно в качестве пепельницы. Мне казалось, что я узнал уже все пороки участников моей экспедиции, оказывается я ошибался. Кто? Женька? Владик? Ирина? Мысль об Ирине вызвала тупую боль где‑то в сердце. Если эта женщина не смогла справиться с собой после всего, что испытала, я не смогу ее осудить.
Чтобы выяснить это разом, я заглянул в оранжевую палатку студента Коровина, где и одному‑то тесно, и где тем не менее находились двое – он и Евгения. Хихикая, они пялились в ноутбук, а рядом стояла воняющая табачным перегаром жестянка, где уже белел новенький окурок.
Я протянул руку и взял консервную банку. Труда это не составило, палатка маленькая.
– Кто?
– Ты мешаешь нам работать, Алишер! – холодно заметила Плавич. При этом она пыталась закрыть какие‑то окна на мониторе. Виндоуз, как это ему свойственно, отвечал растерянными тилибомканьями. Я вытянул шею и заглянул, что они там изучают. Ничего особенно неприличного. Брачные игры ламантинов.
– Я спрашиваю, кто выбрасывает окурки на снег в окрестностях Шамбалы? – повторил я вопрос. По – моему я говорил достаточно спокойно.
– Не надо на меня орать! – сказала Женя Плавич. – Не надо агрессии в окрестностях Шамбалы.
– А может быть не надо хамить старшим?
– А может быть не надо слишком много о себе воображать?
– А может быть не надо было говорить, что читала мои статьи?
– А может быть не надо было заглядываться на эту идиотку с волосами до пяток?
– Алишер Эдгарович, – сказал Владик Коровин: – это я курил «Честерфильд». Это решает проблему?
И в этот момент мы услышали крик издалека.
– Скорее! Скорее! Там что‑то случилось!
21 час.
У нас проблемы.
11 ноября.
Черт их разберет, что за люди местные полицейские. По – моему, на вид это никак не китайцы. В любом случае их понимает только Владик Коровин, но следом за Владиком постоянно ходит Женя Плавич с демонстративной сигаретой в зубах.
Снегоход и профессор Ван Хаартман так и лежат под огромной прозрачной льдиной, сорвавшейся в пятидесятиметровую щель. В бинокль отлично видно иероглифы на раздавленном бензобаке и широкую заледенелую улыбку румяного голландца. Невдалеке лежит раздавленная гитара.
Хотя мы остаемся на месте, больше не мерзнем, поскольку на склоне Деревацкого пика поставлены две военные палатки китайской народной армии с подогревом. Там нас держат под домашне – палаточным арестом.