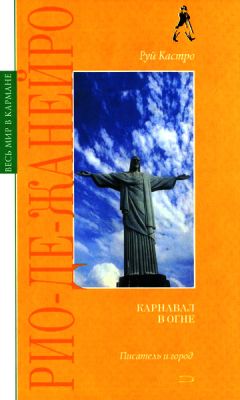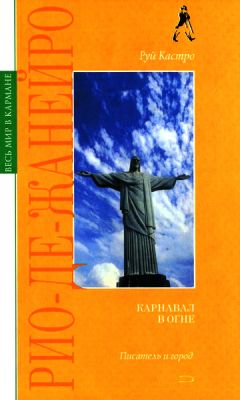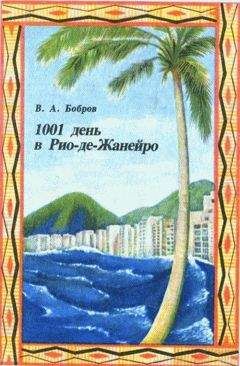Дружит русский и тунгус
И калмык с татаром.
Значит, белый белорус
Погибал недаром!
— Ну, хорошо, — не утерпел Потап, — а вы подразумеваете под определением "белый"? Белогвардеец, что ли?
Стихотворец был снисходительным.
— Я намекаю на его славянское происхождение, вот и все. Белый — значит, блондин, белокурый. Понимаете?
— И что же, только белорус погиб ради русско-тунгусской дружбы? А остальные как же?
Автор разъяснил, что, разумеется, не только белорусы полегли за дружбу народов. Но всех ведь не упомянешь, а никого не вспомнить — обидно. Опять же, рифма соблюдена.
— Да, я уже все понял, — устало произнес Мамай. — У вас все?
— Нет, вот еще:
Мысль твоя, Ильич, летит
Далеко в заморья.
Пожелать тебе хотим
крепкого здоровья!
— Позвольте, как можно желать хорошего здоровья покойнику?
Вздохнув, Игнат Фомич собрался дать пояснения, но пророк, опомнившись, опередил стихоплета:
— Стоп! Все ясно. Заканчивайте поскорее.
Четвертый столбик гласил:
В этот теплый день весны
Мы с тобою вместе.
Будем мы тебе верны,
Как жених невесте.
Потап хотел было поставить под сомнение верность жениха невесте, но, взглянув на диссидента, застывшего в стойке пойнтера, передумал, выхватил газету и дочитал:
Сбудутся твои заветы,
Вспрянут города-сады,
Коммунисты всей планеты
Доведут нас до беды!
— Н-да, — промычал Потап, — напечатали вне конкypca. Сколько же вам дали за эти куплеты?
— А, — отмахнулся сочинитель, — уже не помню. Кажется, четыре.
— Года?
— Рубля.
— Всего-то?
— На большой гонорар я и не рассчитывал.
"Еще бы" — едва не вырвалось у прорицателя.
— А к чему, собственно, были претензии? — удивился он. — Чем вы не угодили властям? С рифмой, кажется, все в порядке.
— Последнее слово. Вы заметили?
— Да. А что?
— Наборщик! — всхлипнул Игнат Фомич. — Наборщик все перепутал. Стих должен заканчиваться так: …доведут нас до победы, а получилось — до беды. Редактор прошляпил, тут-то все и началось.
— "Беда" здесь как-то лучше вписывается в рифму, — деликатно заметил Потап.
— В последней строке я применил специальный прием: пожертвовал рифмой ради содержания. А наборщик, этот неграмотный дурачина, решил, что я ошибся, и вставил свою дурацкую рифму. Но моих объяснений не стали слушать.
Сидорчук трепетно сложил реликвию и спрятал в тряпку.
Из скромности куплетист подписался под "Уроками гения" псевдонимом. Нашли все равно. Вызвали в райком и топали на него ногами. Посадить не посадили, но из партии выгнали. Через месяц приехал какой-то гражданин в черном костюме, шляпе, перчатках и с диктофоном. Назвался другом, обещал помочь. Взяв короткое интервью и подарив червонец, доброжелатель укатил в неизвестном направлении. Вскоре о козякинском антисоветчике вещали вражеские радиоголоса. Сидорчук настраивался по ночам на короткую волну, слушал байки о своей горемычной судьбе и плакал. По Козякам расползлись слухи. Старухи судачили о том, что в городе появилась подпольная шайка, разводящая колорадских жуков. Согласно другой версии, из лагерей бежал заключенный, шастает по погребам и пишет на заборах матерные слова. За кого принимали Игната Фомича — неизвестно, но здороваться с ним опасались. Зато с приходом темноты являлись таинственные личности и подсовывали под дверь записки. Записки изобиловали компроматом на парторгов, ответственных работников и товароведов. Авторы анонимок выражали борцу — одиночке свою солидарность и просили принять меры. Переполненный гневом диссидент складывал письма в чемодан с твердым намерением оправдать надежды народа и, когда придет время, дать материалу ход. Но нужное время пришло и быстро ушло. Грянула свобода. Ругать власть стало можно всем. Не получив хода, диссидентская картотека так и осталась пылиться под кроватью. О Сидорчуке забыли. Уже никто не узнавал в стареющем человеке с блуждающим взглядом недавнего народного любимца. Игнат Фомич чах и тосковал по ушедшим славным временам.
— И много у вас сохранилось этих писем? — осторожно спросил Потап.
— Все. В чемодане целая кипа лежит. Что от нее теперь!
— Кипа, говорите? — Прорицатель оживился и быстро закружил вокруг стола, пытливо изучая трещины на линолеуме. Изредка он вскидывал голову и грозно вопрошал:
— Так, значит, кипа? И большая кипа?
Поэт печально кивал, и Мамай шагал дальше.
— Так как же? — молвил Игнат Фомич, глядя на мелькающие перед ним ноги. — Я могу надеяться?
— Что? — рассеянно спросил кладоискатель. Ах да. Ну-у… может быть, может быть. Почему нет? Хотя вы тоже хорош гусь! Боролись бы себе потихоньку. И советская власть была б на месте, и вы при деле. А теперь попробуйте ее вернуть!
— Я… я не знал, что так быстро ее поборю.
— Не знал! Недооценивать себя так же опасно, как и переоценивать. Вот и получайте. А пока подумайте над своим поведением. Я сейчас соберусь, и пойдем посмотрим вашу коллекцию.
Диссидент остался в одиночестве и, потупившись, смотрел в дыру ковровой дорожки. В голове его ворочалась тяжеловесная, как бревно, мысль о том, как это его угораздило завалить мировое коммунистическое движение.
— Не рассчитал, — сокрушался Игнат Фомич, представляя себя в виде гиганта, неосторожным движением сломавшего карточный домик, — не рассчитал, получается.
Пошептавшись с Геной, бригадир вышел из туалета и кивнул гостю на дверь.
— Ведите меня, народный герой.
Где-то в глубинах коридора мелькнула фигура безработного майора. "Поймаю — прибью гада", — принял решение бригадир, следуя за Сидорчуком.
С неба сыпал снег и, падая на голову Потапа, таял в теплых волосах. На большой Исполкомовской улице не было ни души, не считая примерзших к веткам воробьев. Чекист предположил, что какая-нибудь из этих птиц однажды пролетала над золотым вождем и, возможно даже, неуважительно отнеслась к его драгоценной лысине.
— Я буду бороться, — размышлял вслух непокорный интеллигент, — бороться за советскую власть… А потом буду бороться против нее… Демократия мне не нравится… Невозможно показать свой героизм…
— Мэра пойдете малевать? — спросил Потап.
— Нет, я пойду на радикальные меры.
— Надеюсь, на путь банднтизма вы не станете. Например, один мой знакомый каждый день выходил в людные места и объявлял двухчасовую голодовку. Теперь он народный депутат. Попробуйте и вы. Себя проявите и здоровью польза.
У главного входа в исполком стояли люди в тулупах, составляющие одну команду. К той же команде, по-видимому, принадлежал и человек, маявшийся в некотором отдалении от них. На отщепенце были валенки, искусственная шуба и надвинутая на самые глаза лыжная шапочка "Winter sport USA". Под мышкой он держал древко плаката, на котором корявыми буквами было написано: "Позорно!". Заметив приближающихся прохожих, пикетчик взметнул плакат и заорал сиплым голосом:
— Руки прочь от народной собственности! Прочь руки!
Мамай остановился, скептически оценил плакат и самого демонстранта.
— Руки прочь… от собственности, — повторил лыжник тише и боязливо покосился на товарищей в тулупах.
— Чего орешь? — холодно спросил Потап.
— Руки прочь, — смутился пикетчик, явно не ожидавший такого участия к себе.
— А вы под каким флагом выступаете, товарищ? — вмешался Игнат Фомич, окрыленный встречей с единомышленником.
— Чего? — не понял единомышленник.
— Я говорю, может, давайте объединим наши усилия! Вместе!
— Проходь, дядя, проходь! У нас своих дармоедов хватает, сокращение штатов пора делать.
Хлопнув дверью, из исполкомовского подъезда вышел ответственный работник в сером костюме, молча отдал команде пикетчиков тяжелую на вид авоську, похлопал одного из них по плечу и скрылся в том же подъезде. Люди в тулупах сгруппировались, подали лыжнику знак и зашагали прочь.
— Ну все, — засуетился отщепенец, — шабаш на сегодня! На, дядя, голосуй.
Радостно всучив плакат диссиденту, пикетчик побежал догонять своих.
— Как же это! — только и смог произнести Сидорчук, растерянно уставившись на позорящий щит.
— Вы наивны до посинения, — смеясь, сказал Потап. — Пойдемте, я вам все по дороге объясню. А плакат с собой возьмите. Средства производства нынче в цене. Как им зарабатывать на хлеб — вы только что видели. Хотя лучше бросьте. Мы пойдем другим путем.
— Ничего не понимаю, — бормотал Игнат Фомич. — Против кого они борются?