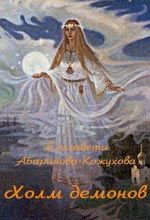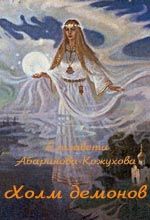Так как никто из сидящих за столом не выказал особого желания приобрести эксклюзивные рейтузы, господин Щербина спрятал их в сумку, а вместо них достал замусоленный самодельный каталог с фотографиями гробов:
— А вот, кому гробик? Мой приятель, художник, делает их по спецзаказу. Если хотите, распишет их внутри и снаружи хоть под Хохлому, хоть под Рафаэля.
Поскольку и художественные гробы не нашли отклика в душах потенциальных покупателей, то Щербина перенес все внимание на инспектора Столбового:
— Егор Трофимыч, я знаю, что Кислоярская милиция готовится встретить юбилей и уже накропал по этому поводу недурные стишки. — Поэт с ловкостью фокусника извлек из кармана засаленного пиджака мятый листок и замогильным голосом начал чтение:
— Я видел милицию воочию, во всей ее самости…
Однако Святославский безжалостно прервал сие поэтическое откровение:
— Господин Щербина, мы с инспектором решили провести следственный эксперимент, и вам в нем отведена роль Сальери. Но теперь вам предстоит сыграть ее не понарошку, а по-настоящему.
Щербина такому предложению ничуть не удивился:
— С удовольствием. Когда?
— Прямо сейчас, — заявил режиссер. — Зачем откладывать? Итак, господин Щербина, вы — Сальери. Мы находимся в Вене… В каком году это случилось?
Серапионыч вновь развернул газету и поискал статью:
— В тысяча семьсот девяносто первом. — И, вздохнув, добавил: Любопытные тогда были, наверное, времена. Вот бы перенестись туда ненадолго, конечно. Послушать Моцарта, взглянуть на Екатерину Вторую, побеседовать с Вольтером, с Фонвизиным…
— И испытать на себе все прелести французской гильотины, — не удержался Дубов.
— Да-да, это же эпоха Великой Французской революции! — подхватила баронесса. — Великие потрясения, великие дела… И неподалеку — уютная бюргерская Вена с маленькими пивнушками и обилием художников, поэтов, музыкантов, съехавшихся со всей Европы…
— Но, наверное, отзвуки Революции долетают и до Вены? — осторожно предположил инспектор Столбовой.
— Ну разумеется! — радостно подхватил Святославский. — Очень даже долетают. Грабь награбленное, все поделить и вообще — отречемся от старого мира. И если во Франции так запросто казнили своего короля, то и по соседству, В Австрии, отравить какого-то композиторишку — сущие пустяки.
— Ну, куда вы хватили! — возмутился инспектор. Это уж, извините, передерг. Так можно бог знает до чего договориться!
— Ну ладно, оставим гильотину в покое, — не стал спорить режиссер. Сосредоточимся на яде. То есть на Сальери.
— Простите, но если я — Сальери, то что мне делать? — подал голос Щербина.
— Как что? — вскинул брови режиссер. — Раз вы музыкант, то и играйте.
— Что?
— Музыку Сальери, разумеется.
— Но я ничего из Сальери не знаю…
— Тогда Моцарта, — распорядился Святославский.
— Посторожите мою сумку, — попросил Щербина и полез на помост, где стояли рояль и ударная установка.
Устроившись за инструментом и открыв крышку, господин Щербина тронул клавиши. Обедающие уже подумали было, что администрация "Зимней сказки" решила пустить музыку и в дневное время, однако вместо ожидаемых джазовых мелодий, способствующих лучшему пищеварению, на почтеннейшую публику обрушились аккорды моцартовского «Реквиема», особую жалостность коим придавали как манера исполнителя, так и некоторая расстроенность рояля.
Однако Святославскому, похоже, только того и нужно было. В то время как слушатели от неожиданности роняли ложки и дивились столь неожиданному репертуару, режиссер сидел в полной отрешенности с закрытыми глазами казалось, его неугомонный дух уже переносился во времени и пространстве.
Вдруг он распрямился, будто пружина, и, едва не опрокинув соседний стул вместе с сидевшим на нем Серапионычем, взлетел на сцену. Щербина от неожиданности прекратил игру и уставился на Святославского.
— Вот видите, видите! — заговорил режиссер. — Вы — хороший, крепкий композитор, да, звезд с неба не хватаете, но всего добились своим трудом, долгими годами усердных занятий, и что же? — Святославский выдержал паузу. Играете в ресторане! Да еще пьески своего соперника, оболтуса, праздного гуляки, который лучше вас лишь тем, что бог по недосмотру дал ему талант, а вам нет.
— Протестую! — перебил Дубов. — Кто вам сказал, что Сальери играл в ресторане?
— Ну хорошо, пускай не в ресторане, раз вы так настаиваете, недовольно пробурчал Святославский. — Да-да, его оперы ставились на сцене, симфонии исполнялись оркестрами, но почему? Потому что в ту пору существовали еще меценаты, покровительствующие высоким искусствам. А что теперь? Мы, творческие люди, должны побираться по мусорным бачкам, торговать рейтузами и гробами, унижаться перед богатеями, которые ни черта не смыслят в истинном искусстве! Где они, меценаты, всякие князья Эстергази, графья Виельгорские и купцы Третьяковы? Нетути! Остались одни спонсоры, — это слово Святославский произнес, будто выплюнул, — которых интересует не искусство, а бабки! Да в наше время, когда на сцене блистают всякие Наташи Королевы да Иванушки Инернешенел, Сальери был бы рад, если бы ему дали возможность играть в ресторане!.. Что вам? — рявкнул Святославский на какого-то господина, который под сценой переминался с ноги на ногу. Господин был явно из «вечерней» публики, непонятно какими путями забредший в "Зимнюю сказку" в обеденное время.
— Да вот, нельзя ли "Мурку"? — Господин протянул Святославскому замусоленную пятидолларовую банкноту. Режиссер переводил недоуменный взор с банкноты на господина, потом как бы нехотя взял деньги и как бы небрежно кинул их на крышку рояля. Зрители за ближайшими столиками с напряжением следили, что будет дальше.
А Святославский, придав лицу и голосу выражение неописуемого сарказма, сделал рукой что-то вроде пируэта и провозгласил:
— Маэстро, «Мурку»!
Не отрывая взора от купюры, господин Щербина послушно затарабанил заказанную мелодию, хотя порой в его исполнение непонятно каким образом и явно вопреки желанию самого музыканта врывались аккорды самого зловещего звучания.
— Не знаю как Сальери, а живи Моцарт в наше время, он бы написал нечто подобное, — не удержался Святославский от ехидного замечания. — Так сказать, Реквием по Олигарху.
— А вам не кажется, друзья мои, что нашего друга Святославского малость занесло? — вполголоса спросил инспектор Столбовой.
— Это с голоду, — сочувственно вздохнул Серапионыч.
— А мне это даже нравится, — неожиданно заявила баронесса Хелен фон Ачкасофф. — Разумеется, такой метод несовместим с наукой, но как психологический этюд — весьма занятен.
— Только бы он не зашел слишком далеко, — озабоченно проворчал детектив Дубов.
— Остановим, — пообещал Столбовой.
Между тем Святославский, бегая по сцене, пытался перекричать фортепиано:
— Вот, господа, глядите — знаменитый Сальери играет «Мурку», чтобы не умереть с голоду. Это ли не показатель нравственного состояния нашего общества?.. Ну все, хватит! — неожиданно накинулся он на Щербину. — За пять «зелененьких» и того много.
Щербина взял последний аккорд, от которого публика едва не прослезилась, встал из-за рояля и раскланялся. Обеденный зал ответил сдержанными аплодисментами. Происходящее на сцене все более занимало публику — закончив обедать, многие пересаживались за столики ближе к помосту и следили за происходящим, хотя и не все понимали, что же, собственно, происходит.
Святославский чувствовал себя, как в лучшие годы своей режиссерской деятельности, и это творческое опьянение, помноженное на давно забытое внимание зрителей, заглушало даже хроническое чувство голода.
— Ну что вы стоите, словно воды в рот набравши? — вновь набросился Святославский на Щербину. — Говорите что-нибудь!
— Что? — недоуменно переспросил Щербина.
— Что-что! Текст вы, надеюсь, помните?
— Какой текст?
— "Моцарта и Сальери", черт побери! Вот и читайте.
— Так бы сразу и говорили. — Щербина картинно облокотился на рояль и, устремив взор куда-то в Звездную Бесконечность, принялся вещать замогильным голосом:
— Все говорят: нет правды на земле,
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма…
— Не верю! — бесцеремонно перебил Святославский. Щербина послушно замолк. Он искренне хотел помочь режиссеру, но все не мог взять в толк, что же тому, собственно, нужно.
— Разве это Сальери? — неожиданно обратился Святославский напрямую к залу. — Господа, вы верите, что человек, подверженный сильным страстям, носящий их глубоко в себе, человек, готовый отравить своего друга и собрата по искусству, станет вот так вот бормотать что-то себе под нос?!