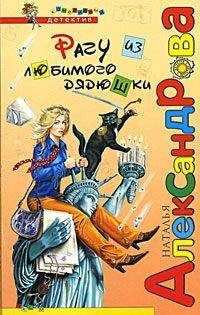Я валялась на диване, неприбранная, в старых джинсах и свитере, связанном еще мамой давным-давно. В квартире стоял жуткий холод — в декабре у нас, как правило, перебои с отоплением. Опять-таки допускаю, что смотреть тогда на меня было не очень-то приятно. И все же я не заслужила тех слов, которые Владимир Николаевич сказал мне как-то утром, когда мы столкнулись с ним в прихожей. Он торопился на работу, искал какие-то бумаги, нервничал, а тут я попалась на дороге — нечесаная, опухшая со сна, в старом заношенном халате… Он поглядел искоса, бросил вполголоса несколько презрительных слов и ушел на целый день.
Сейчас, когда после того инцидента прошел почти год, я и то вздрагиваю, вспоминая подробности. Владимир Николаевич — с тех пор я называла его только по имени-отчеству и на «вы», «дядя Володя» остался в прошлом — рисковал, вернувшись домой, застать мой хладный труп — в тот день я очень близка была к самоубийству. Но, видно, не пришло еще время.
Как ни странно, этот случай повлиял на меня благотворно. Я встряхнулась, сделала в квартире генеральную уборку и сходила в парикмахерскую, после чего вплотную занялась поисками работы, потому что среди всех слов, сказанных отчимом, присутствовало слово «дармоедка». Тут я признала его правоту — с какой стати ему меня кормить? Мы друг другу никто, я не инвалид, нужно рассчитывать только на собственные силы. Выглядела я после пережитого не блестяще, очень похудела, одежда висела на мне мешком, и все работодатели смотрели на меня с подозрением. Пришлось браться за случайную халтуру, запихнув диплом подальше в ящик стола.
Работала я кассиршей в платной зубной поликлинике, рекламным агентом, даже продавщицей в парфюмерном магазине. Во всех местах удавалось продержаться всего несколько месяцев, после чего меня увольняли без объяснения причин, а я оставляла очередную работу без малейшего сожаления. С отчимом мы почти не разговаривали, только приветствовали друг друга без всякой сердечности, сталкиваясь на кухне. Что он ел — понятия не имею, посуду за собой каждый из нас мыл сам, я изредка убирала кухню и места общего пользования и никогда не заглядывала в их с мамой комнату, которая теперь стала только его.
Примерно через полгода или попозже, я уже не помню, Владимир Николаевич как-то утром сообщил, не глядя мне в глаза, что сегодня к нему придет гостья и чтобы я не вздумала устраивать скандал. От неожиданности я поперхнулась кофе, потом посмотрела на его аккуратно подстриженный затылок и еле сдержалась, чтобы не выплеснуть гущу из чашки ему на голову. Очевидно, он что-то почувствовал в моем молчании, потому что повернулся и быстренько объяснил мне, что квартирой после смерти мамы мы с ним владеем в равных долях и что он имеет право делать на своей половине что хочет. И все, больше у него не нашлось для меня никаких человеческих слов. У меня, впрочем, для него тоже.
Гостью звали Маргаритой. Она походила-походила к нему, да и осталась окончательно. Была она значительно моложе Владимира Николаевича, такая яркая вульгарная брюнетка. Он заявил, что собирается на ней жениться.
— Не рано ли? — только и спросила я, имея в виду, что со смерти мамы не прошло еще и года.
— Не рано, — ничуть не смутился он. Вот и поговорили.
Было бы странно, если бы Маргарита понравилась мне. Но она меня возненавидела едва ли не сильнее, чем я ее. Она, игнорируя меня, кокетничала с Вовой, как она называла отчима, затеяла ремонт на кухне и перестановку в комнате и всячески давала понять, что их безоблачному счастью мешает только мое присутствие. Нервы мои и так были на пределе, поэтому пару раз мы с ней крупно поскандалили. Но до мордобоя дело не дошло.
Наступила годовщина маминой смерти. Звонили какие-то люди с ее работы, с их общими друзьями Владимир Николаевич объяснялся сам. Никто не пришел на кладбище, и я была этому даже рада. Я сидела там одна долго-долго, пока не замерзла.
Стоял тихий зимний день, с легким морозцем, от деревьев уже падали синие тени, когда я встала со скамеечки. На душе стало значительно легче, как будто мама поговорила со мной. И я внезапно поняла, что не может моя жизнь и дальше быть такой же безысходной. Что-то обязательно должно измениться. Нужно только терпеливо ждать и не упустить свой шанс.
Поэтому последующее мое увольнение из магазина хозтоваров я восприняла стоически. И вот, когда я сладко спала в первый свободный день, зазвонил телефон. Я сняла трубку без душевного трепета, не зная, что звонок этот — судьбоносный.
Спрашивали Софью Павловну Голубеву и, услышав утвердительный ответ, сообщили, что говорят из Парголовской больницы и что мне нужно срочно туда приехать, потому что моя родственница Голубева С. А. находится в тяжелом состоянии и я могу не успеть ее навестить.
— Это какая-то ошибка, — пролепетала я, — у меня нет никакой родственницы с такой фамилией, у меня вообще никаких родственников нету!
— Да? — неприязненно отозвались на том конце. — А она вас назвала как правнучку.
— Правнучку? — Я совсем запуталась.
— Да вы не волнуйтесь, — по-свойски заговорила женщина, — бабуля-то плохая совсем, ухаживать за ней не придется, не сегодня завтра помрет. Ведь лет-то ей сколько!
— Да я совсем не об этом… — смутилась я.
— Так что ей сказать — приедете вы или нет?
— А она не ошиблась?
— Да что вы мне голову морочите! — рассердилась женщина. — Голубева Софья Павловна, одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года рождения, отец ваш — Голубев Павел Алексеевич?
— Нуда, — рассердилась, в свою очередь, я, — раз я Павловна, то и отец, значит, Павел…
— А мать — Анна Ильинична?
— Ой… и правда…
— Ну вот видите! — обрадовалась неизвестная женщина. — Значит, все сходится, ничего бабушка не путает, да она еще лучше нас с вами соображает, когда в сознании. Записывайте, как доехать!
Я хотела сказать настырной тетке, что никуда не поеду, что у меня никогда не было никаких родственников в Парголове, но тут вдруг в голове щелкнуло и вспомнилось, как я третьего дня сидела возле маминой могилы и думала, что важно не упустить тот момент, когда жизнь моя начнет меняться. Вот оно, вот оно, то самое! А если даже не то, от меня не убудет, съезжу, проведаю бабулю, человек при смерти, а я еще раздумываю…
Я собралась очень быстро, потому что и впрямь забеспокоилась, что старушка, назвавшая меня своей правнучкой, не доживет до моего приезда. Ужасно хотелось узнать, правда ли то, что она сказала. Фамилия у нее та же — Голубева, и даже имена у нас одинаковые.
В детстве малораспространенное, устаревшее, как я считала, имя Софья доставило мне немало горьких минут. Начиная с детского сада меня дразнили Соней-засоней, Сонькой Золотой Ручкой и Мамашей. Последняя кличка прилипла уже в школе, когда одноклассники узнали, что тридцатого сентября именинницы не только Вера, Надежда и Любовь, но и мать их София.
Поначалу я очень обижалась, потом привыкла, только спросила у мамы, отчего меня назвали таким чудным именем. Она ответила, что называл отец, и, в честь кого, она не знает. Отец мой, Павел Алексеевич Голубев, работал шофером-дальнобойщиком и погиб в автокатастрофе через восемь месяцев после моего рождения. Никаких бабушек-дедушек с его стороны у меня не было, мама никогда про них не рассказывала, говорила, что у отца никого не осталось. Так что, вероятно, бабуля от старости что-то путает, никак не могу я быть ее правнучкой. Но совпадение имен как-то связывало меня с ней.
Я долго ехала на метро, потом на маршрутке до Парголова, затем долго искала больницу, так что, когда подошла к железным воротам, уже начинало темнеть. Однако меня впустили и показали, куда пройти. Дежурная сестра встретила меня приветливо, оказалось, что это она звонила мне. Она кликнула нянечку, та дала мне белый халат и тапочки и проводила в палату.
Палаты в этой больнице были большие, и везде лежали женщины, в основном старухи. Меня провели в угол, за ширму.
— Совсем плоха, — шепнула нянька, — но в сознании, тебя ждет.
За ширмой горела тусклая лампочка, и в первый момент мне показалось, что на кровати никого нет. Когда же я подошла ближе, то увидела на ней очень худую старушку, почти бестелесную. Седые волосы разметались по подушке, желтая пергаментная кожа, изрезанная морщинами, была как у неживой. Глаза у старухи были закрыты, только хриплое дыхание вырывалось из полуоткрытого рта.
Я беспомощно оглянулась на няньку.
— Алексевна, слышь, Алексевна, — шепотом позвала та, — очнись, приехала она.
Медленно-медленно приподнялись веки. Глаза у старухи оказались темными и живыми.
— Ты кто? — прошелестели бледные губы.
— Я Соня, Софья Голубева, — ответила я, — мне сказали, что вы хотите меня видеть.
Старуха скосила глаза на няньку, и та удалилась.
— Сядь сюда, поближе, — зашептала она хрипло, — вижу, вижу, что наша ты, моей крови. Слушай внимательно. Отец твой, Павел… внуком мне приходился, только я его никогда не видела…