Так злоупотребить моим доверием — этого я не прощу!
И тут меня охватывает ярость, самая страшная, на которую я способен. Она оглушает меня, лишает рассудка (чуть не сказал “ослепляет”).
Она переполняет меня, как кипящее молоко. Честно говоря, я не припомню, чтобы когда-нибудь раньше меня хватала за горло такая злость. Она начинается от ступней. Потом поднимается вдоль ног. Меня бросает в дрожь. Мне становится жарко. Я вскипаю. Затем прошибает холодный пот. Меня трясет, как в лихорадке. Что-то расползается по мне вроде огромных муравьев на тысяче лапок. Я начинаю стонать, кричать.
Я впадаю в транс, дорогие мои! Извержение вулкана! Я выплескиваюсь из глубин океана раскаленной лавой. Я булькаю! Я брызжу! Меня несет! Я распадаюсь! Мне страшно! Этого не выдержать, не усмирить! Я — разрушитель! Уничтожитель (житель, житель, житель…)! И вот я приподнимаю Грето (оно для меня уже поменяло пол) за ворот его кимоно и наугад наношу сильный удар!
Он (оно) вопит!
Потом хрипит!
Я наношу ему еще серию ударов, большинство из которых не достигает цели. Боксирование с пустотой еще больше распаляет мою ярость. Не знаю, надолго ли хватит мне еще горючего. Но я уже перешагнул порог допустимой скорости. Я вышел из-под контроля! Я стал неуправляем! Я впал в бешенство! По-черному!
Наугад я преследую фальшивую мышку по всей ее спальне. Попискивания и всхлипывания помогают мне найти цель. И я настигаю педика кулаками то в лицо, то в грудь, то под ребра.
Чувствую, во мне проснулся убийца, дорогие мои! Живодер!
Молочу руками и не могу остановиться. Несчастный тип болтается между моими кулаками то влево, то вправо, то взад, то вперед! Мои удары производят странные звуки. Я сатанею. Деяние полностью поглотило меня. Хочу кричать. Но не могу.
Безысходность, в которой я тонул последние дни, вдруг воспламенилась и теперь объята пламенем, как тысяча Жанн д’Арк, облитых бензином.
О, безысходность моя, она сожжет меня — и головешек не останется!
На, получи! Бам! Бум! Хлоп!
И вдруг силы покидают меня. Наваливается тяжесть. Мне кажется, я сейчас упаду, вырублюсь. Ноги не держат, я шатаюсь. Дыхание перехватывает.
До чего же у нее противная харя, у Греты. Лошадиная морда под маской единорога. Черт, и к тому же этот крокодил — педик. Нужно быть слепым, чтобы с первого взгляда не рассмотреть, что у него рожа бешеного таракана! Только Берю мог польститься на такую…
Но! Бог ты мой! Так мог завопить только Берюрье, увидев на базарной площади распродажу дирижаблей.
Но, черт возьми, наконец! Я ВИЖУ!
Эй! Ребята, вы видели, читали? (Предыдущую строку?)
Запомнили? (Последний раз пишу крупно.)
Я ВИЖУ!!!
Вот уж точнее не скажешь: лучше раз увидеть, чтобы враз поверить! Я вижу этого длинного блондинистого педика, который смотрит на меня со страхом и восхищением, вытирая свой разбитый в кровь нос. Я вижу маленькую комнатку с голубыми матерчатыми обоями, набитую всякими дурацкими игрушками. Я вижу немецкую куклу с большими немецкими глазами, сидящую на немецкой тахте с немецкими подушками! Я вижу стеклянную дверь в туалетную комнату. Я вижу копии литографий, на которых изображены господа и дамы, дамы и дамы, господа с господами, старающиеся показать, как им весело в любви.
Бог мой, не может быть! Я вижу! Какое счастье!
Целый оркестр арф взрывается во мне, постепенно вытесняя глухие раскаты вагнеровской бури.
Выходит, Фелиция предвидела точно! Она чувствовала, что должно ЧТО-ТО произойти! Феномен не-знаю-какой-и-знать-не-хочу — это мой случай, моя удача!
Ну конечно же, а вы сомневались?
Вы ведь знали прекрасно, что единственный и неповторимый, уникальный Сан-Антонио не мог долго оставаться слепым.
Его издатель просто бы ему не позволил.
Кстати, этот человек не любит шутить с публикой. Растяни я свою слепоту еще страниц на двадцать, он отдал бы распоряжение возместить клиентам убытки. А он, между прочим, один-единственный порядочный издатель, и вы хотите, чтобы я подложил ему такую свинью?
Я не только вижу, но к тому же вижу четко.
Жизнь розовая…
Синяя, желтая.
Танго (оранжевая).
Вальс.
Лежа на своем рабочем месте, педик в растерянности начинает расчесывать волосы и бормочет что-то несвязное. Буря, пронесшаяся по нему, сильно качнула ему крышу — попробуйте встать (лечь) на его место.
А теперь вдруг тишина… И моя счастливая, абсолютно блаженная физиономия! Мои глаза… Мои глаза!
Бурное возвращение Берю прерывает идиллическое состояние, в котором мы до этого пребывали (не правда ли?).
— Я не помешал? — волнуется Мамонт. — Вы уже закончили вольные упражнения? Что касается меня, если говорить обо мне, относительно меня, то я только что испытал редкое разочарование. Корова — никаких реакций! Стог сена. Чувствительности не больше, чем у грузовика. Ты ее так, ты ее сяк — она как кусок мрамора. Как холодильник. “Бревно! Только время потерял. Подобное перепихивание — никого интереса: будто высморкался и ушел. Надо установить контроль за работой простипутан. Дать им жалобную книгу, и пусть клиенты ставят оценки по шкале в десять баллов и пишут свои замечания. Моей, если выставить оценку, я бы дал не больше единицы, и то только для того, чтобы ее не выкинули с работы. Комментарий: лучше энергичная рука, чем такой рукав. И все! Ну а что твоя? Она тебя — как врага народа? А, парень? Боже, а что это с ней стряслось? Это ты ее так отделал? У вас была большая страсть? Любовь типа неудержимой кенгуру? Или ты давал ей уроки морали и читал нравоучения?
— Ты ничего не замечаешь, Берю? — ставлю я точку в его вопроснике.
Он хмурится.
— Кроме разбитой физиономии мамзели Греты, ничего… А нужно что-то заметить?
— Сядь на этот стул с велюровой желтой обивкой.
Он подчиняется.
— Так, ну и что?
— Убери свой галстук, болтающийся на жилете, а то у тебя несколько неопрятный вид.
— Он исполняет.
— Вот, пожалуйста, монсеньер. Ну что еще тебе взбредет в голову?
— У тебя волосы растрепались, Александр-Бенуа, — продолжаю я. — Попробуй граблями расчесать остатки шевелюры!
Он растопыривает пальцы и проводит ими по голове.
— Знаешь, своими замечаниями на мой счет ты мне начинаешь действовать на простату, — заявляет он.
— Возможно, Толстяк, но мои замечания… они тебе кажутся вполне нормальными? Не надо открывать рот, будто карп, которого несут, чтобы показать Эйфелеву башню. Напряги извилины.
— Действительно, — бормочет он, — есть, я бы сказал, нечто кое-что, что мне странно. Только я не врублюсь что.
Я лезу ему в карман жилета и беру монетку, затем подбрасываю ее, ловлю и, поднеся к его носу, говорю:
— Решка. Странно, правда?
Он надувает щеки.
— Нет, орел или решка, мне до…
И тут наконец его осеняет. Он вдруг мигом соображает, что ко мне вернулось зрение. Сначала он зеленеет и физиономия у него вытягивается. Потом он пытается облизнуть губы, но его язык пересох, как кость, валяющаяся в Сахаре под палящим солнцем. Он сглатывает, но что-то щелкает у него в горле. Два обезвоживания подряд никогда не породят и капли влаги. Толстяк сидит с прилипшим к губам языком и таращит на меня глаза.
Затем глаза его стремительно лезут из орбит.
В горле происходит хлопок, как в глушителе машины, мотор которой не заводится.
Он падает на колени.
Начинает креститься.
Но на полпути бросает и тычет в меня пальцем.
Бормочет “Отче наш”, а затем “Богородицу”.
Чем не жанровая сцена! Толстый французский полицейский молится в комнате борделя в присутствии долговязого немецкого педика.
Бред, безумие!
Закончив обрядовые действия, Берю садится на пятки. Как в Мекке.
— К тебе возвратилось зрение, мой Сан-А, — вздыхает мой лучший друг. — Ах! Какое счастье! Великое счастье! Мы наконец спасены, ты и я. Спасены! Я тоже спасен, брат! Признаться, — я не в силах выносить этот обет…
— Какой обет?
— Я поклялся не пить ни капли красного вина до тех пор, пока ты снова не будешь видеть, парень. Ты не можешь себе представить, какие муки я принял… Пить только белое — врагу не пожелаешь. Ты бы сразу понял, что белым сухим можно только полоскать глотку. Пьешь, пьешь — и никакого толку, а утром, после перебора, — просто сущая отрава! Но все-таки скажи наконец, как произошло твое чудесное выздоровление?
Я рассказываю ему. Он довольно мотает головой.
— Ага, понимаю. Согласись, в некоторых исключительных случаях педераст тоже неплохо? Как знать, может, ты проходил мимо своего выздоровления много раз, Сан-А? Я вот думаю, не поехать ли тебе все-таки в Аурдский монастырь…
— Зачем туда ехать, если я выздоровел?
— Чтобы отдать долг честного христианина, — сделав одухотворенную рожу, заявляет мой Толстяк.
Он вытаскивает из кармана пачку немецких марок и протягивает несколько бумажек “высокой блондинке”.
— На, ты заслужил, дарлинг! — уверяет Мамонт.
Его лунообразное лицо вызывает доверие.



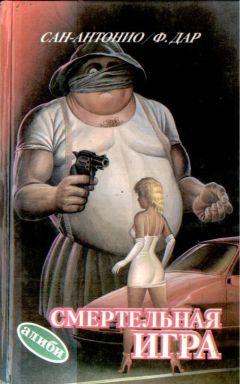
![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)
