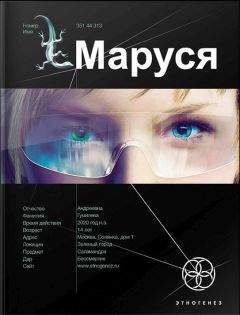И тут я помертвела. Вопль вырвался из моей груди, и подкосились ноги. Что несет эта Люба? Не я убивала президента? Так президент убит?!
Видимо я снова не только подумала, потому что Люба опять ответила:
— Нет, слава богу, он жив и здоров на радость всему народу. Жив —здоров и знать желает какая сволочь на него окрысилась.
Я ахнула.
— И кроме меня, следовательно, сволочи не сыскали, во всей нашей огромной стране, — возмутилась я.
— Сама видишь, что не сыскали. Президент требует ответа на свой, государственной важности вопрос, а ответа нет ни у кого. Просто удивительно, Соня, что тебя не подстрелили, — вновь загоревала Люба и оптимистично добавила: — При попытке к бегству.
Удивительно уже стало и мне самой. Лопухнулся что-то Владимир Владимирович. Шлепнул бы меня, и мой молчаливый труп как злейшего врага государства представил. Хоть на такую меня полюбовался бы президент, все ж приятно предстать пред его очами — да и некогда мне живой.
Шутки шутками, но, думаю, пояснять не стоит, что еще больше захотелось мужика в фуфайке отыскать.
— Думай, Люба, думай, — нервно попросила я. — Если не я из гранатомета стреляла, то кто же стрелял? Не ты же?
— Так не было там меня, мусор выносила. Как обычно утречком вышла с ведром (мусоропровода нет у нас), а обратно в дом не пускают, просят ждать. Начала ждать, а тут и вас с Валериком потащили. Перепугалась я! Просто кошмар!
Люба очень выразительно закатила глаза и деловито отметила:
— Потолки в этом туалете дюже красивые. Мы с Валериком большой ремонт затеваем, так я теперь все подмечаю.
“Ха! Они с Валериком уже большой ремонт затевают, а у меня даже полы в доме немытые. Чем я хуже? Почему в покушении подозревают только меня?”
— Не хуже ты, а лучше, — утешила Люба.
Повадилась мысли чужие читать, или и в самом деле крыша моя едет.
— Мы обычные серые обыватели, — ответила Люба на мой немой вопрос, — потому нас и не трогают, ты же отличилась уже многократно, так почему бы тебе и на президента не покуситься? Пришло же тебе в голову романы писать. От тебя теперь всего можно ждать, ты же у нас как бы писательница. Нормальные люди книг не пишут, они их даже не читают.
Ну как тут не обидеться? Вот она, зависть человеческая! Нет-нет, да и пробьется сквозь тонкую пленку воспитания. Люба прекрасная собеседница, если речь идет о фингалах Славки, икоте Машутки и животе Ванюшки, но не дальше этого. Когда же Люба берется рассуждать о моих романах, о творческом отражении, воспроизведении действительности в художественных образах… Короче, о настоящем искусстве…
Нет, не хочу обижать подругу. Имея столько детей, обо всем рассуждать разучишься — здесь только можно завидовать ее женскому счастью.
— Люба, давай вернемся к нашему важному вопросу, — проникновенно попросила я. — Выходит ты видела как нас с Валерой увозили.
— Да! Да! — яростно подтвердила Люба.
— Сколько же времени прошло с тех пор, как ты покинула квартиру?
— Да минут пять, не больше.
“И тут не обманул полковник, — подумала я. — Люба вышла, а я очнулась, увидела мужика в фуфайке, он бабахнул, через три минуты начали ломиться в дверь, секунд сорок мяли бока Валерию, потом полковник влетел, и нас скрутили. Да, от ухода Любы до нашей поимки прошло пять-семь минут. Но куда же мужик тот делся? Не растворился же он.”
Пока я размышляла, Люба заскучала и с тоской поглядывала на дверь.
— Сонь, я пойду, а то неудобно, — промямлила она.
— Что — неудобно? — возмутилась я. — Меня ловят, а тебе неудобно? Скажи лучше, мог на другой этаж убежать тот чертов мужик?
Люба замотала головой:
— Нет, не мог. Наш дом крепко охраняется, дежурный на каждом этаже, а жильцы сплошные сотрудники.
Я удивилась:
— И старая дева?
— Она бывшая, уже на пенсии, но верь мне: не побежит к ней никакой мужик. Разве что с Белой горячки. Из нашей квартиры — сама понимаешь — бежать некому.
Рядом живет сам полковник. Он начальник этой охраны, ну и парализованный у меня за стенкой…
— Тоже бывший сотрудник?
— Он нет, его покойная жена. Она получала квартиру. А парализованный по другой части был, но все в прошлом. Теперь он хоть и мужик, но…
И тут глаза Любы наполнились ужасом.
— А-ааа! — закричала она, зажимая рот ладошкой. — В фуфайке он, говоришь, был?
— Да, в новой фуфайке.
— Цвет? Какой цвет?
— Цвет редкий, синий.
Люба сползла по стенке:
— Точно! Я видела ее!
— Синяя стеганая фуфайка, вся гарью покрыта, — задыхаясь от возбуждения, поведала Люба.
— Точно! — возликовала я. — Точно покрыта гарью, чем же еще ей покрытой быть после гранатомета? Ха! Значит был! Был мужик! Где? Где ты фуфайку видела?
— В шкафу у парализованного, — растерянно ответила Люба.
Я опешила:
— А зачем ты лазила в его шкаф?
— Ну как же, мы же с Валериком ему помощь оказывали, родственница попросила.
— Чья родственница?
— Да парализованного. Племянница или фиг ее знает кто ему она. Девица, очень симпатичная блондинка, каждый день приходит, оплачивает сиделку, сама ухаживает за ним, опекает. Думаю, из-за квартиры. Больше же наследников у парализованного нет, вот она на квартиру и нацелилась.
— Хорошо, черт с ней, как ты попала в шкаф?
Люба всплеснула руками:
— Соня, как бедно люди живут! Как бедно живут! Пустая комната…
Очень тяжело разговаривать с Любой — тут у любого не выдержат нервы.
— Как ты попала в шкаф? — гаркнула я.
Только после этого она ответила:
— Одеяло старое подарила и сама положила парализованному в шкаф, глянь, а там, под тряпками, фуфайка.
Я уж не стала допытываться почему любопытная Люба, пользуясь беспомощностью парализованного, полезла в его тряпки — не до того мне было, вся в раздумья ушла.
Раздумья оказались бесплодны.
— Это что же выходит? — в конце концов спросила я. — Парализованный что ли на президента покушался?
Люба замахала руками:
— Что ты! Что ты! Он лежит, как бревно. Два раза в неделю — по пятницам и субботам — его в инвалидное кресло грузят и на прогулку спускают, родственница часик другой по скверу повозит, а чаще просто бросит в сквере его, и, пока он воздухом дышит, по делам своим убегает, а на обратном пути завозит парализованного обратно. Вот и вся его жизнь, все остальное время лежит, бедолага, чисто бревно.
— Тогда ничего не понимаю.
— Сама не понимаю ничего, но фуфайка там, в шкафу, до сих пор валяется под моим одеялом.
Я пристально посмотрела на подругу: Люба очень меня любит, сомнений нет, и я, хоть и зла, тоже очень ее люблю. С детства крепко дружим. Пропитались друг другом насквозь, однако, на это не глядя, ясно мне то, что о нашем с ней разговоре будет сегодня же…
Нет, не сегодня — со свадьбы Люба поздно домой придет.
Завтра же узнает о нашем разговоре Владимир Владимирович. Так уж устроена Люба — пугливая она, и ничего с этим не поделаешь, боится за всех: за себя, за мужа, за подруг и за их мужей, но больше всех за своих детей. Не станет Люба рисковать, как приказали ей, так и поступит.
“Даже зла за это на нее не держу, — обреченно подумала я. — Такова жизнь. Такова Люба.”
— Вот что, — строго глядя подруге в глаза, сказала я, — завтра же утром напишешь отчет о проделанной работе.
Она бестолково захлопала ресницами:
— О какой работе?
— Тебе сказали в случае чего, ну если я выйду на контакт, писать отчет?
Люба испуганно кивнула.
— Вот и напишешь что в ресторане видела меня, и все, что здесь было, подробно опишешь: драку, то да се, только, умоляю, не пиши одного, умоляю, забудь про фуфайку и парализованного. Надеюсь ты не говорила еще про фуфайку?
Люба отрицательно помотала головой и нервно облизала пересохшие губы.
“Боже, как боится, — ужаснулась я, — полные штаны от страха. Еще бы, толпа детей. Если не так что, там не церемонятся: в два счета прикроют Валеркин бизнес — вся семья будет лапу сосать, чтобы не сказать хуже.”
Над Любой и в самом деле нависла угроза. В таких условиях мне даже стыдно было подругу просить, но ничего другого не оставалось. Скрепя сердце начала ее убеждать.
— Подумай сама, — сказала я, с болью глядя в ее, переполненные страхом глаза, — наш разговор никто не слышал, следовательно про фуфайку знаем только ты и я, следовательно о ней можно в отчете не поминать.
— А если тебя поймают?
— Что я, дура? Клянусь: про фуфайку не скажу и про парализованного не скажу — невыгодно мне.
— А если пытать будут? А если бить? Тогда крайней окажусь я? А у меня дети! — плаксиво заключила Люба.
“Она права, — подумала я, — у нее дети. У меня, кстати, тоже ребенок.”
Вспомнив про Саньку, я продолжила с новым энтузиазмом:
— Вот что, дорогая, может поймают, может не поймают, может скажу, а может и не скажу, но вот если скажешь ты, тогда меня точно и поймают и пытать будут! Хоть дай клятву, что не бросишь на произвол судьбы моего Саньку, сиротиночку.