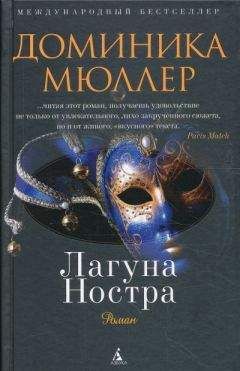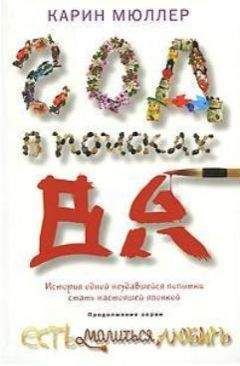Борис теперь не выходит из дому без фотографии Вини в кармане. Ее-то он и продемонстрировал этой женщине, албанке, усиленно тыча пальцем то в себя, то в нее, то в снимок, то в чердачную лестницу. Посмотрев на фото с таким выражением, будто это было не фото, а какая-то тухлая рыбина, она пулей бросилась на чердак и спустилась оттуда с выстиранным бельем в руках. Первый выстрел был сделан вхолостую. Ничего, тем не менее обрадовались мы. За вторым дело не станет. Скорость, с которой она бросилась снимать все эти носочки-распашонки, говорила о ее стремлении как можно скорее скрыть следы детского присутствия, которые вообще не должны были попасть в поле нашего зрения. Все это время ее муж столбом стоял позади нас. Теперь палец Бориса обратился к нему: указав сначала на инструкции Корво, потом на главный вход виллы, он запрыгал с одного на другое, в то время как сам Борис шепнул мне на ухо, что готов поспорить, что этот тип не умеет читать по-итальянски, а посему не посмеет помешать нам исполнить указания, якобы оставленные его хозяином. Список профессорских поручений был нашим пропуском в дом, с ним мы могли отправить эту парочку куда подальше и хозяйничать в доме в свое удовольствие, прочесывая его сверху донизу. Вернувшись к горшкам с самшитовыми деревцами, Борис сначала величаво помахал воображаемой лопатой, затем повертелся на месте, толкая перед собой воображаемую тачку, после чего сунул нашу бумажку мужу под нос. Обратившись затем к жене, он описал в воздухе контуры китайской вазы и, прищурившись, что должно было изображать восточный разрез глаз, пустился в напряженные объяснения на языке жестов. Наконец, уверившись в том, что мы собираемся забрать с собой деревца, поместив их в китайские вазы, для чего нам нужно привезти в тачке земли, парочка удалилась, оставив нас на крыльце одних. Недолго думая, мы бросились в дом: Борис — в левое крыло, я — в правое. Никогда в жизни мне еще не было так страшно, однако я все же отметила, что страх — это мощный двигатель: подгоняемая им, я носилась из комнаты в комнату, где, разумеется, ничего не находила, когда вдруг с лестницы раздались громкие голоса. Борис стоял внизу, в вестибюле, а малиновая от злобы парочка крыла его почем зря на таинственном диалекте. Не обязательно было владеть албанским, чтобы понять, что нас с позором гонят вон. Но тут дядюшка с чарующей улыбкой снова ткнул пальцем в инструкции, и албанцы догадались, что устраивать разборки с хозяйскими гостями им не резон. После непродолжительного теплого прощания мы потопали к такси, где и укрылись с таким чувством, будто за нами по пятам гналась команда киллеров из каморры, имевшая на руках контракт о нашем устранении.
Сердце у меня готово было выскочить из груди, когда мы, целые и невредимые, катили обратно по мирной сельской дороге, вдоль берега Силе. Хотя что такого могло с нами случиться? Мы сами, как дети, нагнали на себя страху, тем более бессмысленного, что мы не обнаружили ничего мало-мальски подозрительного. Если я только заикнусь перед братом о каких-то там носочках, висевших на бельевой веревке, он непременно пошлет меня к моим плафонам. Это я так думаю, воскликнул Борис, после чего вынул из-под свитера засунутую за ремень жалкую детскую вязаную кофточку, коричневую, с обтрепанными манжетами и воротом, и сунул мне под нос. Это та самая коричневая кофточка, в возбуждении кричал он, которая была на мальчугане из профессорской гостиной, ее ни с чем не спутаешь, он запомнил эти локти, заштопанные не подходящей по цвету, бежевой ниткой.
Руками Борис мало что умеет сделать, он сам это признаёт, но вот глаза у него просто замечательные. Не глаза, а чудо-машина для видения с запоминающим устройством. Ему достаточно нескольких секунд, чтобы запомнить картину в мельчайших деталях. Дядя понял это, когда несколько раз, увидев какое-нибудь полотно, мог с точностью сказать, где, у кого и когда он видел его прежде. Если любишь живопись, нет ничего необычного в том, что с первого взгляда узнаёшь пусть даже позабытый предмет своей любви. Когда мальчуган появился в гостиной у Корво, он был одет во все новое. И если тогда Борис и не обратил внимания на коричневую вязаную кофточку, его глаз все же зафиксировал бедняцкую штопку, как он зафиксировал бы неудачно подправленную живопись, портившую полотно в целом. Вот и все. Там, на вилле, на площадке второго этажа, ему бросилась в глаза эта одежка, висевшая на спинке кресла, и он в мгновение ока вспомнил того мальчика в гостиной — все очень просто.
Объятые сладкой эйфорией, мы наслаждались победой. Жалкий свитерок был той самой деталью, которая в пух и прах разносила выстроенную Корво конструкцию, предметом, вступавшим в противоречие со всеми его построениями. Бежевая штопка позволяла соотнести коричневую кофточку с тем мальчуганом с той же достоверностью, как сгиб пальца «Мужчины с перчаткой» позволял определить руку Гверчино. Эта деталь наполняла смыслом разрозненные элементы целого.
«Нечто забавное», добавленное Энвером к сайту эскорт-услуг Илоны Месснер, — это дети, предмет чудовищного торга, то, о чем прожужжал нам все уши Альвизе и что стало известно Волси-Бёрнсу. Этот мерзавец решает шантажировать Корво, а может, Энвера. Для этого он и задерживается в Венеции — чтобы потребовать у них денег, которых никогда не увидит, поскольку Энвер или Корво, а может быть, и оба вместе, назначив ему встречу, убивают его, а затем отвозят тело на канал Сан-Агостино, воспользовавшись для этого гондолой профессора, наличие которой Альвизе предстоит проверить. Так что дело в шляпе. Просто удивительно, сколько всего можно узнать благодаря какой-то малюсенькой детальке, если пристальнее взглянуть на нее. Какая-то бежевая штопка — и вот с поразительным реализмом перед нами встает картина убийства. Сам Караваджо не написал бы лучше.
Однако, если есть коричневая кофточка, должен быть и ребенок, на котором эта кофточка была надета. Какова его роль в этой истории и почему его нет на картине?
Куда он испарился, этот мальчуган?
С уверенностью можно сказать только одно: у нас есть только кофточка. И еще — сумасшедшая сумма на счетчике такси. Сбежав из Чендона, мы не посмеем взять с Корво деньги за дорогу, так что единственное, к чему приведет нас этот свитерок, шепнула я Борису, — это к разорению.
Стоя у въезда на мост Свободы, еще на материке, мы вдруг поняли, что наша находка говорит лишь о том, что ребенок и человек, занимающийся детской благотворительностью, встречались, что мы видели собственными глазами и о чем говорила Илона.
Оставалось лишь надеяться, что Альвизе не примет слишком в штыки этот трофей, выхваченный зорким оком Бориса, вздохнула я. Око, напомнил мне дядюшка, с которого в этот момент не спускал изумленных очей таксист, наблюдавший за нами через зеркало заднего вида, — у всех цивилизаций является символом абсолютного знания. У Игоря есть тибетский стяг, на котором Яма, бог-разрушитель и распорядитель ада, изображен с третьим глазом в центре лба, указывающим на его особую прозорливость, превосходящую чувственное восприятие, то, чего так не хватает нашему Альвизе. В ответ я напомнила ему гравюру Одилона Редона «Глаз в виде странного воздушного шара, отправляющийся в бесконечность», на которой глазное яблоко представлено в виде монгольфьера, уносящегося ввысь, чтобы взглянуть на мир сверху. Единственное, что может привести семейство Кампана к согласию, — это какая-нибудь черная дыра, которая засосет наши зоркие очи, все вместе, и их поглотит тьма, такая же непроницаемая, как это темное дело.
Летом мы с дядюшками обожаем кататься по Лагуне на пуппарино Бориса. Стоя на корме под палящим солнцем, дядя отталкивается веслом, направляя лодку по зеркальной глади воды между баренами{9} прямо на закат. В травяных зарослях застыли изнуренные зноем цапли, удоды и чайки, вода горячая как печка и такая спокойная, что даже Игорь отваживается взять в руки весло, чтобы показать, что и он сумеет управлять лодкой, если того потребует Борис. Тоска по этим летним денькам сжала мне сердце, когда я стояла на том конце моста Свободы, на окраине Венеции, разукрашенной гаражами, автомобилями, экскурсионными автобусами и прочими отрыжками материка. Стоя посреди этой промозглой гризайли, мы вывернули карманы, чтобы расплатиться с таксистом, с грустью отметив, что теперь нам не на что будет купить пармскую ветчину и тыквенные ньокки для Альвизе, и мне показалось, что нашему былому семейному согласию никогда уже не вернуться. Пройдя по украшенной мраморным кружевом паперти Святого Иоанна Евангелиста, в нескольких шагах от канала, где плавал Волси-Бёрнс, мы вернулись в палаццо Кампана, когда уже начало темнеть. Борис ущипнул меня за нос и за губы. Так он делает обычно, когда видит, что мне грустно, стесняясь вытравливать мою печаль словами. Вдруг ему стало холодно, и он запахнул плащ, плотнее прижав его к телу и детской коричневой кофточке, спрятанной у него за поясом.