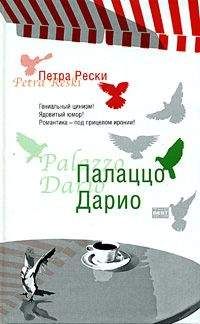И в это время Тито вышел из спальни. В руке он держал тяжелый кожаный чемодан, купленный для него Миком в Милане. Смущенная улыбка играла на его лице.
– Извини, Мик, что ты вот так обо всем узнал. Я думал, будет иначе. Но лучше так.
Мик на глазах у них почернел и камнем упал на мраморную лестницу Палаццо Дарио. Когда Тито наклонился к нему, Мик уже не смог сосредоточить на нем взгляд.
– Я всегда любил тебя, – сказал он слабым голосом. Глаза его закатывались. – Развей мой прах по всемирно известному Большому каналу, – прошептал он.
Жизнь покинула его.
– Прошу тебя, Тито, скорее, – в ужасе воскликнула графиня Бонфили. – Уйдем из этого проклятого места.
Тито ничего не оставалось делать, как предоставить Мика его печальной судьбе. Он осторожно открыл тяжелую дубовую дверь и проскользнул к выходу. Оба, словно тени, скрылись в темноте венецианских сумерек.
Узнав об ужасной кончине Мика, Аня тут же вернулась в свой любимый город-лагуну. Проплывая в элегантном катере-такси мимо моста Риальто, она с болью вспоминала, как Мик до их злосчастного появления в проклятом Палаццо Дарио мечтал только об одном: о магическом сиянии лагуны в начале лета, о живописной Кампо Сан Джиакомо дель Орто в волшебном полуночном свете. За день до ее трагического предательства Мик поделился с нею своей последней волей, и она возвращалась сюда, чтобы исполнить эту его волю, оказать последнюю услугу своей любви. Колокола на Кампаниле пробили полночь, и луна погрузила город в серебряный свет. Аня глубоко вздохнула. Вапоретто первой линии пошел в сторону импозантной церкви Санта Мария делла Салюте. Когда они поравнялись с Палаццо Дарио, мягкий свет ложился на его бледный истрийский мрамор, по-праздничному подсвечивая его. Аня сняла крышку с дорого украшенной урны и высыпала прах Мика Суинтона во всемирно известный Большой канал. Ее руки дрожали, поэтому она крепко обхватила урну. Неожиданно поднялся ветер. Он поднял прах Мика Суинтона и пронес его как звездный дождь над головой Ани и пассажиров, стоявших рядом с ней.
Мик Суинтон исчез навсегда под ногами венецианцев, которые растащили его частицы по всей Венеции, и только жалкая часть его праха скрылась в водах всемирно известного Большого канала.
Так безжалостное проклятие Палаццо Дарио смахнуло с лица земли еще одного человека довольно оригинального стиля».
О вопросах стиля, чайной церемонии Примо и других проявлениях чувствительности
«Сейчас ровно 16 часов. И четыре минуты. Точное время дарит вам "Роза Салва"». Ванда захлопнула книгу. В «Роза Салва» – венецианском кафе с довольно средненькими conetti57 никогда не объявляли точное время. Это было бы так банально. 16 часов и четыре минуты означало, что Ванда пересидела здесь уже четыре минуты. В коридоре было тихо. Ни «красная бригадирша», ни человечек в шапочке не полагались на сигналы точного времени «Радио Венеции».
Дни в музее рассыпались, как фигуры из песка, и исчезали один за другим, друг от друга не отличаясь. До телефонного звонка сегодня утром. Ванда, как всегда, сидела у себя в кабинете и читала эротические стихи Баффо, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку.
– Говорю вам в последний раз, ваша рукопись так ужасна, убога, такая пошлость и халтура, что ее невозможно читать даже под сенью сосны с видом на Умбрийский собор. Выбросите его в ваш всемирно известный Большой канал, – кричал мужской голос.
Ванда кашлянула.
– И мне больше не нужны ваши указания на то, как следует понимать суть вашего романа, увольте меня от вашего бесконечного полуночного волшебного света, мраморных лестниц и прочей всей вашей венецианской дряни!
Не веря своим ушам, Ванда посмотрела на телефонную трубку.
– Извините, но вы, должно быть, ошиблись. Кто вам нужен? Это Восточный музей.
– Да, все правильно, – кричал звонящий.
– Но я не понимаю, о чем вы говорите, – мягко сказала Ванда.
– Это издательский дом «Мондауди», и я говорю о рукописи романа, которую нам уже в седьмой раз прислал доктор Джироламо Морозини, несмотря на все посланные ему наши отказы.
– Здесь об этом ничего не знают, – ответила Ванда.
– Вы не его секретарша? – спросил издатель.
– Нет.
– Тем не менее передайте ему. Пусть оставит меня в покое, иначе может случиться непоправимое! – Он положил трубку.
Директор Морозини все утро просидел, запершись у себя в кабинете, и только во второй половине появился на глаза. Он зашел к Ванде, чтобы убедиться, что она читает и не намерена предлагать никаких супер-идей по развитию музея. И прежде чем она смогла что-нибудь сказать, он, еще стоя в дверях и совершенно заслонив собой свет, заговорил о последних городских наблюдениях.
– Вот я смотрю иногда на людей в вапоретто, госпожа доктор, и сразу вижу, кто венецианец, а кто сардинка! Сардинка во всех смыслах – современный человек, живущий в консервной банке. Из консервной банки своего дома он забирается в обертку костюма, потом в жестянку машины, из нее попадает в упаковку своего кабинета.
Он кашлянул. Он всегда давал своим словам оформиться и растаять, как облачкам сигаретного дыма. Он замолкал и держал паузу, пока его последний слог не оседал в сознании слушателя. Он хотел, чтобы его фраза полностью раскрылась, как парашют, и благополучно донесла его мысль до собеседника.
– Такое законсервированное существование характеризует и выражения их лиц. Вы не замечали, доктор, когда бывали в Местре? Там у всех глаза и даже линия губ опущены. Когда сардинка приезжает в Венецию, с ней происходит метаморфоза. Поначалу она приходит в некоторое замешательство, – здесь он опять сделал паузу, – из-за отсутствия машин и светофоров, которые обычно регулируют ее жизнь. Потом она расслабляется. Ее законсервированный взгляд постепенно меняет выражение, смягчается от полноты ощущений и чувств, которые дарит ей Венеция.
Тут он взял особо долгую паузу – признак выразительного финала.
– Здесь следовало бы построить санатории! – восторженно воскликнул он. – Санатории для сардинок – в них будущее Венеции!
Ванда издала звук. Ей не очень хотелось нарушать пафос такого масштабного заключения своим довольно прозаическим сообщением, но, видимо, для Морозини это было важно.
– Сегодня мне позвонили из издательства «Мондауди», – сказала она и удивилась тому, как при этих словах изменился цвет лица Морозини, – и просили вам передать…
– Да, да, наконец-то! – обрадовался он. – Ну, говорите же, ради Бога!
– … речь шла о том, что нельзя читать даже в тени венецианской базилики с видом на апельсиновое дерево… так, кажется… Тот господин был очень взволнован и высказался как-то зашифрованно. Сказал, чтобы я передала вам, чтобы вы на будущее оставили его в покое, не то случится непоправимое.
– Даже под сенью венецианской базилики… – Морозини так задумался, что, казалось, не просто углубился, а провалился в себя, как осевшее суфле.
Ванде на мгновение стало даже жаль его.
– Может, вам попробовать еще где-нибудь, – сказала она, пытаясь его ободрить.
Но к Морозини уже вернулось самообладание.
– Спасибо за теплые слова, – сдержанно произнес он и скрылся в своем кабинете.
«16 часов. И пять минут – точное время вам дарит "Роза Салва"». Ванда вышла из музея. Без особого настроения, потому что впереди ее ждало только сидение перед телевизором в компании Радомира. С тех пор как жизнь Палаццо Дарио обогатилась спутниковой антенной, Радомир не выпускал телевизионного пульта из рук. Неожиданно для всех он страстно полюбил теннисные турниры и автогонки, а тайком смотрел даже соревнования по серфингу на канале «Евроспорт».
На Кампо Сан Стае собралась группа японцев, еще не поменявших «законсервированный сардинский взгляд» на венецианское выражение лица. Они сбились в кучку, как рыбий косяк, прислушиваясь к своему гиду. Та, не переставая говорить, приподнимала у себя над головой сломанную радиоантенну с повязанным на ней и развевающимся платком от «Эрме». Ванда присела на ступени церкви Сан Стае. Иногда в похожие минуты ей хотелось взять машину и умчаться куда-нибудь из этого театра под открытым небом.
Над всемирно известным Большим каналом простиралось такое знакомое серое небо, вот уже несколько недель застилавшее город густым покрывалом. Ванда вспомнила своих коллег из Неаполя, предсказавших ей туман! туман! туман! Но это было еще хуже. Туман по сравнению с ним, встретивший Ванду в первые венецианские дни, представлял собой настоящее действо: полурастаявший или сырой и липкий, или такой густой, что лучше бы ему пролиться дождем, да не хватало порой решимости, отчего он через несколько часов ретировался в море. Или настоящий качественный венецианский туман. Он вздымался снизу, клубился, расстилался и вытягивался пластом над городом, терявшим дар речи от испуга. Даже «О sole mio» звучала в такие туманные дни так, словно певец исполнял ее, уткнувшись лицом в подушку. И площадь Св.Марка можно было пересечь, только ступая по белым мраморным полосам на ней. Ванда любила такие дни. Неожиданно из поля зрения пропадал собор Св.Марка. Кто-то сослепу натыкался на Дворец дожей. А над всем этим парила в воздухе Кампанила. Но вот уже несколько недель в Венеции царила серая краска, а не туман. С утра до вечера город был освещен одним и тем же светом. В такие дни Ванду одолевала ностальгия по Неаполю. Утром она, как обычно, созванивалась с отцом и спрашивала его о погоде.