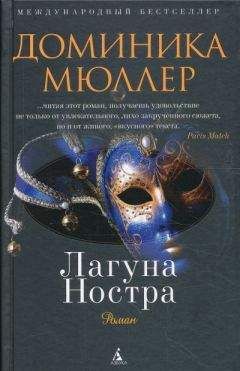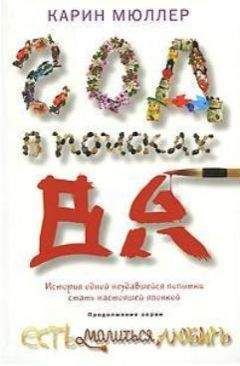Оставалось найти мотив. Почему Эрранте зарезал Волси-Бёрнса, когда тот собирался дать ему работу? Потому что тот его унизил, разве не ясно? Когда англичанин заплатил ему аванс, он сначала долго торговался, спорил. За какой-то торт, три сэндвича и просекко он хотел получить скидку. Ну, тут Эрранте еще готов был его понять, хотя его уже достало вкалывать за гроши. Но тот со смехом добавил, что при одном взгляде на Эрранте видно, что он не метрдотель в белых перчатках. У него хотя бы есть темный костюм и галстук-бабочка? Тут-то Иоган и завелся — от его мерзкого голоса, от его придирок: он, видите ли, и выглядит не так, и манеры у него не те. Ну и вот, ему надо было успокоиться, а иначе — никак. Было поздно, на улице — никого, он вынул свой нож и — раз! У хорошего повара ножи всегда наточены. Этого он тоже заткнул одним движением. Он усадил его в углубление какого-то дворика — таких мест полно в Венеции, — а сам пошел искать гондолу, потом дотащил его до лодки и сбросил в воду — раз-два! Ему даже не пришлось смывать кровь с земли, потому что шел дождь. Он прошелся до Пьяццале-Рома, чтобы дождь смыл пятна с его одежды, забрал в гараже свой грузовичок и вернулся в Кампальто. Как и в случае с Сальваторе, все произошло из-за голодного чудовища, которое сидит у него внутри, это оно заставило его схватиться за нож. Комиссар теперь знает, что ему не справиться со своим демоном.
Альвизе понимал, что Эрранте выдает ему обрывки почерпнутых из газет фактов, детали же, которые следствие держало в секрете, не были ему известны. Молдаванин ничего не знал ни о часах, ни о запонках, ни о кольцах, ни о белой рубашке без единого пятна крови, ни о бумажнике, ни о плаще Волси-Бёрнса. Чтобы убедиться в своей правоте, комиссар поинтересовался, что тот сделал с пальто на меховой подкладке, которое было на убитом. Теперь, когда комиссар сказал о нем, Эрранте и сам вспомнил, что ведь и правда было такое пальто. Вот ведь как, ему только стоит немного помочь, и он все вспомнит. Пальто было все в крови, и он выбросил его в урну, точно так же как выбросил на стоянке в Фаваро свой свитер и брюки.
Не было никакой шубы, никогда не было. Но несмотря на явное безумие этого бедняги, на провалы в памяти, Альвизе не мог просто так взять и исключить правдивость его признаний. Существовала процедура, опять же видеокамера. А главное, была какая-то вилла неподалеку от Тревизо, может быть, вилла Корво, и насмешки Волси-Бёрнса, о которых Эрранте так достоверно рассказывал. Заранее боясь ответа, который мог последовать на его вопрос, комиссар спросил молдаванина, не забыл ли тот еще чего-нибудь, например как он убил человека прошлым летом.
Где же была голова у этого бедняги Иогана? Конечно, он совершенно позабыл про человека, которого убил прошлым летом. Комиссар имеет в виду того самого, которого нашли в Лагуне, на Фондамента-Нуове? Он еще весь был изрезан вапоретто и объеден крабами и чайками? Эрранте читал в газетах, гораздо позже, что никто так и не узнал, кто он такой. Он тоже не знает. Он встретил его на набережной, на берегу Лагуны. Тот был пьян в стельку и обозвал его — просто так, по пьяни, без причины. Дело дошло до рукопашной, а потом, как с теми двумя, нож, кровь, вода и покой, покой, покой. В тот вечер футляр с ножами опять был при нем, потому что он шел из театра, где устраивал праздник — тарелки-стаканчики из картона — для одной престарелой актрисы, на которую люди шли смотреть, как на монумент. Пока он все убрал, было уже поздно, на набережной никого, не считая этого пьяницы. На этот раз с кровью оказалось сложнее. Не на убитом — тот свалился в Лагуну. Иоган сам был весь заляпан кровью. Он потратил кучу времени, пробираясь по пешеходному мостику, который взбирается на стену Арсенала, после Челестии, на уровне Внутренней гавани. Там уж точно никого не бывает. Присев на корточки, он разделся прямо на мосту, прополоскал в воде брюки и рубашку поло, надел на себя мокрыми и через весь город отправился к Пьяццале-Рома, куда пришел почти сухой — такая стояла жара. В гараже он забрал свой грузовичок, тот, старый, еще не продырявленный, и вернулся в Кампальто.
Альвизе провел ладонями по лицу. А может быть, у Иогана Эрранте есть еще что добавить? Он ничего не забыл? Может, есть еще убийство, в котором он хочет признаться? Повар смотрел на него в возмущении. Что же это такое? Его что, принимают за вруна, за убийцу?
О мертвеце из розового домика, которым занималась полиция Местре, Альвизе говорить не стал. Это было не его расследование, и он не собирался облегчать жизнь коллеге, которого ему пришлось упрашивать, чтобы тот показал ему труп. Ну, что еще? Он дал Иогану Эрранте подписать показания по трупу в пруду, а остальные отложил до поры до времени: надо было проверить кое-что из его путаных признаний. На повестке дня оставались безымянный ресторан в окрестностях канала Сан-Агостино, театр на Фондамента-Нуове, дама из социальной службы и все тот же распрекрасный Энвер, который, возможно, и заказывал доставку готовых блюд на виллу Корво. Возможно, да, а возможно, и нет. Возможно, Эрранте имел дело с другим албанцем и ездил на другую виллу. Возможно, он только приписал Волси-Бёрнсу оскорбления, которым его подвергали другие клиенты, — с его-то мнительностью. А возможно, медленно проговорил комиссар, как будто каждое слово из него тащили клещами, он сказал правду, правду, которая звучит как ложь, правду, которой мой брат не мог решиться поверить.
Обладая, в отличие от своего подозреваемого, потрясающей памятью на факты, Альвизе вспомнил, как любящий муж утверждал, что никогда ничего не скрывал от своей красавицы Нины. Интересно, рассказывал он ей о своих подвигах прошлым летом и в ноябре, как рассказал обо всем тем вечером, после истории с прудом? Эрранте забыл, он вообще не помнит больше ничего, сверх того, что уже рассказал. Это было так давно. Даже последнее убийство с прудом уже подернулось жижей забвения. А теперь он валится с ног от усталости. И хочет выразить комиссару особую благодарность за то, что тот его не оскорблял и не унижал. Он такой симпатичный, такой добрый на вид, может быть, он отправит его сразу в тюрьму, чтобы он мог спокойно отдохнуть, не думая больше ни об «Errante Catering», ни о выплатах за грузовичок, ни о банковском кредите? Если подумать, так все к лучшему. Признавшись в этих убийствах, он освободил от себя Нину и детей: в конце концов, это лучшее, что он смог для них сделать за всю свою жизнь. Он рад.
Иоган отправился обратно в камеру, а Альвизе пошел пешком домой, в палаццо Кампана, оба одинаково измотанные, связанные друг с другом той особой взаимной порукой, которая плетется, слово за слово, между следователем и подозреваемым, когда оба прекрасно понимают мотивы, толкающие человека на убийство себе подобного. И дело тут не в стокгольмском синдроме, а в венецианской скученности — в отличительной особенности нашего города, где повар из Кампальто, разъезжающий на грузовичке по окрестным деревням, может пересечься с албанским авантюристом на вилле темного махинатора, а возможно, и с богатым лондонским туристом на берегу канала, чтобы затем связаться вместе с ними в один тугой узел и застрять в глотке комиссара полиции. Он уже ничуть не удивился бы, если бы мы с дядюшками заявили ему, что Эрранте — наш лучший друг, пошутил брат. Если уж на то пошло, у Бориса с Волси-Бёрнсом отношения тоже были не самые лучшие. Так что, если кто-то еще хочет сознаться в убийстве, теперь самое время. Альвизе и сам, может быть, схватился бы за кухонный нож и зарезал бы Кьяру, если бы жил в таких же условиях, как этот молдаванин, не имея возможности укрыться от невзгод у себя дома, рядом со своим ребенком, рядом с семьей. В такие вечера, как, например, сегодня, ему приятно осознавать, что мы, со всеми нашими странностями, способны все же понять одинокого следователя, который, отправив за решетку настоящего убийцу, всем сердцем желает, чтобы тот оказался невиновным.
Виви уснул. Чего бы ему хотелось, шепнул брат, так это лечь спать всем вместе, в теплом гнездышке, с младенцем под боком, — как дети, и чтобы в мире не было ни убийств, ни Кьяры, ни Эрранте — ничего плохого.
Игорь с Борисом притащили сверху свои циновки. Мы же с Альвизе и Виви юркнули под бархатное покрывало и закрыли глаза, объятые, словно водами, мягкой тишиной.
И Венеция всю ночь нашептывала нам на ухо, что, каким бы ни было завтра, дождливым или солнечным, хорошим или плохим, оно будет.
«Гадзеттино» и «Нуова Венеция» разошлись в несколько секунд, объявил мне Микеле в тот день, когда в газетах появилась снятая на мобильник фотография Иогана Эрранте в наручниках, садившегося в лодку, перед тем как отправиться из здания суда в тюрьму. Киоскер стиснул мне обе руки, как будто это я обеспечила ему рекордную продажу местных ежедневных газет.
Альвизе уже неделю ночевал в антресоли, и в то утро мы с дядюшками отправились за пропитанием, толкая перед собой, словно двойной символ материнства, коляску Виви и хозяйственную тележку, стоявшие обычно на приколе в андроне. Было ясно, что брат постепенно переселяется ко мне, и мы решили, что небольшая пирушка должна помочь ему осознать, что он стоит на пороге развода.