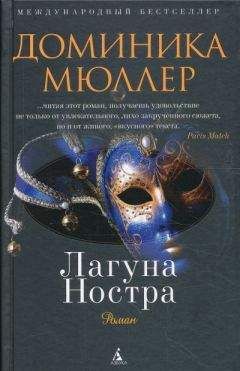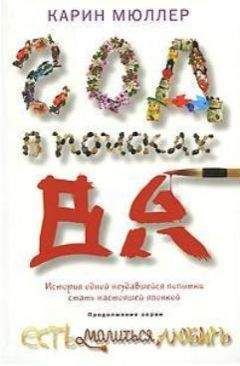Как и хозяин «Аи Постали», Месснер опознала Эрранте по полицейской фотографии. Как-то на вилле Корво в Чендоне, куда она отвозила детей-нелегалов, вызволенных из суровых условий государственных приемников, она видела, как Энвер с Иоганом выгружали из грузовичка готовую еду, которую албанец относил в столовую, переоборудованную под своеобразный рефекторий. Как мы догадывались, Илона была очень падка на ласку, и Альвизе изливал на нее потоки доброжелательности. На этом месте своего рассказа брат подмигнул Борису с видом инструктора по плаванию, похваляющегося перед владельцем пляжа количеством покоренных курортниц. Его вульгарный жест возмутил даже Бориса, Игорь же прикрыл Виви глаза ладонью, желая уберечь его от столь недостойного зрелища, как родной отец, с гордостью рассказывающий о том, как он воспользовался слабостью несчастной обездоленной женщины.
Альвизе вздохнул. Если Илона Месснер обездоленная, то как тогда назвать ребятишек, из которых, можно побиться об заклад, она вместе с Корво и Энвером извлекала немалую выгоду? Комиссар допускал, что его подмигивание выглядело не слишком изысканно, но о какой изысканности может быть речь в обществе, где вращалась Илона? Следователь-виртуоз, забыв об отвращении, идет на непосредственный контакт с врагом, чтобы лучше понять его и поразить его же оружием, как раньше исследователи прививали себе микробы, бактерии и вирусы. Эти Корво могут покупать себе сколько угодно дворцов на Большом канале и исторических вилл, могут приглашать знаменитых архитекторов, чтобы те строили им стеклянные дома, все равно их естественной средой останется помойка. Ибо ты прах и в прах обратишься.
Игорь поднял брови, удивившись, что Альвизе вдруг занялся предсказаниями. Комиссар вышел из роли, а когда художник начинает путать кисти, тут-то и случаются всякие неприятности. Испорченную карму можно исправить, лишь действуя по наитию. Надо только предвидеть, что может произойти, когда на сцене появляется кухонный нож. Каждому свое: комиссару — разбираться в фактах, Игорю — в кармах. И пусть каждый делает что должно, это единственный способ не нарушить мировой порядок.
Спасаясь от этой пламенной речи, брат удалился па кухню, чтобы бросить живых моэке в кипящее масло и проследить за их гибелью. Доставив жареных крабов в бумажном кульке, как это делали когда-то уличные фритолини[56], он продолжил свой рассказ с того места, на котором остановился.
Далеко не все еще было ясно. Признания из Илоны Месснер приходилось вытягивать буквально по слову, а потом еще отчищать все это от грязи, подобно автомеханику, который возится с постоянно глохнущим мотором. В показаниях этой дуры было столько пустой породы, что Альвизе уже почти потерял надежду отыскать в ней пару самородков, которые подтвердили бы дьявольскую хитрость Микеле Корво.
Посредством «мелких услуг», оказываемых с достаточным умением и тонкостью, чтобы к ним не могли примениться термины «взятка» и «коррупция», заручаясь там — печатью, тут — подписью, так что не подкопаешься, филантроп забирал маленьких нелегалов из госприемников. Добывая кому место для матери в доме престарелых, кому бесплатные билеты на финал по футболу, Корво усыплял совесть своих должников, которые закрывали глаза на недостающие документы, неполные досье. Деятельность «Алисотрувена» основывалась на принципе сообщающихся сосудов, действующем между законностью и жульничеством, с той лишь разницей, что Корво применял эту систему наоборот. «Отмытых» через официальную систему детей он снова запускал в свои грязные махинации. Альвизе надеялся, что ему нет надобности уточнять любимой сестре, что весь этот отлаженный механизм — дело рук ее Джакомо. Это благодаря ему Корво играючи разделывался с юридическими препонами, ни разу в них не запутавшись.
В результате настоящей филантропической деятельности настоящие брошенные дети попадали в настоящие бездетные семьи, что было безупречным прикрытием в глазах закона. Но за этими непрозрачными «ширмами» творились мерзости, исполнителем которых был подручный Корво Энвер. В его задачу входило время от времени изымать кое-кого из детей — оформленных по всем правилам, с печатями, сертификатами и гарантиями от администрации, — из приемных семей под не поддающимся проверке предлогом, что нашлись их настоящие родители и они должны вернуться на родину. Малыши, попавшие в официальную иммиграционную систему, служили приманкой, трогательной рекламой бескорыстной деятельности «Алисотрувена». Обретя таким образом неприкосновенность, благодетель Леле мог спокойно заниматься своим подпольным бизнесом. На этой стадии на сцену выходит Илона Месснер в роли сопроводительницы, в которой мы и увидели ее в профессорской гостиной с мальчуганом в коричневом свитерке.
В окрестностях Тревизо существовало несколько перевалочных пунктов, где детей откармливали, одевали, показывали врачу, стоматологу, учили худо-бедно лопотать по-итальянски, затем, после всех этих испытаний, Корво и Энвер отбирали из них самых многообещающих. Месснер божилась, что не знала, что происходило с этими милыми малышами потом, после подготовительного класса. Понадобилось все умение, весь опыт такого мастера разведки, как Альвизе, чтобы сломить ее оборону. Он заговорил с ней ее собственным языком, надавив на нее ложью и фальшивыми угрозами так же мрачно и неотвратимо, как давит на нашу психику вой сирены во время наводнения.
Для нас слово «тревога» это синоним слов «резиновые сапоги» и «плащ». Для таких, как Илона, тревога означает смертельную опасность и необходимость срочно спрятаться. Альвизе по капле впрыснул в нее такую дозу панического страха, что она выложила ему все как на духу. Сидя днем и ночью под охраной двоих полицейских и ничего не зная о своих подельниках, «раскаявшаяся грешница» клюнула на так называемые признания Энвера, от первого до последнего слова сочиненные братом. Она поверила в предательство своего бывшего любовника, который якобы обвинил ее в содержании сети детской проституции в Интернете и в Местре. На самом деле Альвизе Энвера больше и не видел, предоставив ему торчать в своем люксе, пока сам он не насобирает необходимого материала, чтобы арестовать его, не опасаясь при этом, что через два дня он снова будет разгуливать на свободе и наслаждаться жизнью в баре своего шикарного отеля. Альвизе наплевать на его подделки: пусть торгует чем хочет, хоть Библиями, написанными лично Богом Отцом. Но крупную рыбу обычно ловят на мелкую рыбешку, и проституция оказалась наживкой, которую Месснер заглотила за милую душу.
Каждый, кроме нас с Борисом и Игорем, знает, что вдоль Терральо[57], в Местре, постоянно толкутся иностранки без роду и племени. Альвизе воспользовался делом Каталины Доци, которое подняло на ноги всю полицию Портогруаро. Вечером эта молодая венгерская проститутка, как обычно, прогуливалась вдоль бульвара, а позже ее тело, выброшенное из машины и раскатанное всмятку колесами тяжеловозов, нашли на дороге Венеция — Триест. Полицейские подобрали ее удостоверение личности: за четыре дня до того Каталина отпраздновала свое восемнадцатилетие, что добавило в историю этой девочки-проститутки патетический штрих. Тело было в таком состоянии, что патологоанатом из Портогруаро чуть не поседел, устанавливая обстоятельства ее смерти. Даже Альвизе, разглядывая приложенные к делу фотографии, отвел взгляд от этих расширенных от ужаса или удивления остекленевших глаз, подернутых начинающей мутнеть пеленой. Брат сожалел, что ему приходится лишать нас иллюзий, но в настоящей жизни и смерти мертвецам часто не хватает ни манер, ни времени, чтобы закрыть глаза, в отличие от столь любимых нами художественных останков. Альвизе было интересно, какую еще чертову параллель могли бы мы придумать к этой сцене — раздавленная девушка на мрачной, едва освещенной дороге, — от которой до наших романтических декоров, усеянных звездами небес и беломраморных дворцов, отражающихся в зеркальных водах каналов, как до Марса.
Может быть, одна из восковых фигур-экорше Клементе Сузини[58], отважился вставить Борис, не готовый согласиться с противопоставлением искусства и жизни. Смерть, расцвеченная карминно-красными венами, гранатовыми артериями, коралловыми мышцами и пурпурными сухожилиями, вызывает у потрясенного зрителя одновременно и страх, и восхищение. Или «Смерть Девы Марии» Караваджо. Отечные ноги, вздувшийся живот, одутловатое лицо — черты Марии позаимствованы у проститутки с берегов Тибра. Эта живопись обладает такой внутренней силой, что способна выразить все муки мира, и не важно, где они испытаны — на убогой ночной дороге или перед картиной в музее.
Неплохо, даже умно, но все равно наши сравнения притянуты за волосы. Он, Альвизе, как и Караваджо, несколько приукрасил, а лучше сказать, изуродовал то немногое, что ему было известно о Каталине, приврав немного с целью поразить воображение своей свидетельницы, — так наше воображение может поразить какая-нибудь картина. Комиссар заверил ее, что с этим трупом она здорово вляпалась, что полиция доподлинно установила, что Энвер замешан здесь по уши, поскольку уличные подружки Каталины признали в нем сутенера. И чтобы не сесть снова в тюрьму, Энвер все повесит на нее, скажет, что она-то и заказала это жуткое убийство, и тут уже не помогут ни раскаяние, ни протекция, шепнул ей Альвизе. Мы заметили ему, что вот так, нагромождая ложь за ложью, маниакальный поборник закона и те, кто этот закон попирает, становятся в конце концов похожи как две капли воды, на что он сочувственно нам улыбнулся. Разве не мы все время упрямо пытаемся ему доказать, что искусство правдивее, чем жизнь?