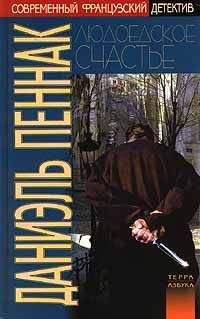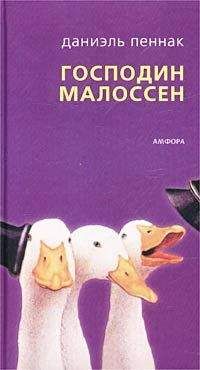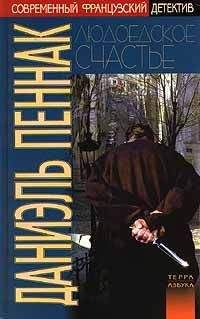Пастор юркнул в лифт, благословляя Небо за то, что он не один из парней Серкера, а просто сыщик из отдела комдива Аннелиза. Комдив Аннелиз работал без суеты в полумраке комфортабельного кабинета. Комдив Аннелиз угощал посетителей кофе в ампирных чашках с императорской заглавной буквой «N». Комдив Аннелиз мало показывался на людях. Он не был «уличным» детективом. Случись Пастору быть убитым на улице, Аннелиз скорбел бы сдержанней. Возможно, лишил бы свой кофе сахара – на несколько дней.
***
Первое, что Пастор увидел, открыв дверь собственного служебного кабинета, была крошечная вьетнамка в сандалиях на деревянной подошве, вливающая в себя полный стакан белесой жидкости, похожей на что–то цианистое.
8
Нимало не обеспокоившись, Пастор закрыл за собой дверь.
– Кончаешь жизнь самоубийством, Тянь? А я слышал, что твое вчерашнее выступление по телевизору произвело фурор.
Стоя с запрокинутой назад головой, вьетнамка подняла руку, призывая к молчанию. Служебный кабинет был обычным кабинетом полицейского средней руки. Два стола, две пишущие машинки, телефон, железные стеллажи. Пастор поставил себе и раскладушку. На ней он спал, когда не хватало сил вернуться домой. Пастору достался в наследство бульвар Майо. Огромный дом на краю Булонского леса. Огромный пустой дом. С тех пор как не стало Советника и Габриэлы, Пастор спал на работе.
Вьетнамка же, поставив стакан и утерев губы ладонью, сказала:
– Не лезь в печенки, сынок, сегодня меня молодежь просто достала.
У нее не осталось ни тени акцента далекой Долины Тростника. У нее был голос Жана Габена: что–то вроде шуршания гальки, перекатываемой неистребимыми интонациями двенадцатого округа Парижа.
– Это смерть Ванини так тебя расстроила? – спросил Пастор.
Усталым жестом вьетнамка сняла гладкий парик, обнаружив под ним череп, поросший редкими, седыми, но жесткими, как ярость, короткими волосами.
– Ванини – дешевка, зарвался, вот и съел маслину, мир праху его. Не о том речь, сынок. Ну–ка, подсоби.
Вьетнамка подставила Пастору спину. Пастор расстегнул крючки на ее национальном платье и, потянув замок молнии, раскрыл шелк до самых ягодиц. Шагнувший из платья гуманоид был с ног до головы мужчиной в теплом нижнем белье.
Пастор перестал дышать.
– Чем ты надушился?
– Это «Тысяча цветов Азии». Нравится?
Пастор выдохнул так, как будто вывернул душу наизнанку.
– Просто невероятно, что Серкер тебя не узнал.
– Да я б и сам себя не узнал, – буркнул инспектор Ван Тянь, снимая с тощего бедра служебное оружие. И добавил: – Ей–богу, сынок, я прямо превратился в собственную вдову.
Лишенный аксессуаров бабушки Хо (а чувство профессиональной ответственности заставляло его даже носить каучуковые грудные протезы, плоские, как пара антрекотов), инспектор Ван Тянь оказался тощим, старым и хронически унылым полицейским. Он открыл розовый тюбик с транквилизатором, вытряс себе на ладонь две таблетки и съел их, запив протянутым Пастором стаканом бурбона.
– Все мои болячки разом проснулись.
Инспектор Ван Тянь рухнул на стул перед своим юным коллегой Пастором. Пастор подхватил стакан, наполнил водой, кинул туда две таблетки аспирина, поставил на середину стола и в свою очередь сел.
Подперев ладонями подбородки, оба молча смотрели на круговерть пузырьков. Глотнув из стакана с аспирином, старик Тянь сказал:
– Сегодня я чуть не прижал двоих.
– Подростков?
– Можно и так сказать. Симона–Араба и Длинного Мосси. Они наперсточники, разбираются с Хадушем Бен Тайебом. Им на двоих не больше сороковника. Рядом со мной они сопляки, но по жизни, честное слово, они здорово пообтерлись.
Пастор любил эти ночные часы, когда инспектор Ван Тянь спускался с бельвильских холмов в контору для составления ежедневного рапорта. По причине, которую Пастор себе не объяснял, присутствие старика Тяня напоминало ему Советника. Может быть, потому что Тянь рассказывал ему сказки (приключения бабушки Хо), совсем как в детстве Советник. Или дело в их возрасте… В приближении Срока…
– Слушай меня, сынок. Они вышли на меня у банкомата на улице Фобур–дю–Тампль, угол Пармантье. Представляешь? Железный Мосси плюс бетонный Араб против бабушки Хо. Я дал им понюхать почти три тысячи франков. Одну бумажку даже нарочно уронил. И что ты думаешь? Вдруг Длинный Мосси догоняет меня и отдает ее назад! Ладно, думаю, еще не вечер, значит, будут грабить дочиста, без шума и пыли, где–нибудь вроде метро. Пошли в метро. Эти идут за мной и несут похабщину, что, мол, они мне задницу ошпарят, сиськи открутят и все в таком духе… Толкают меня в пустой вагон, зажимают с двух сторон и, вместо того чтобы снять деньги, продолжают расписывать свои китайские пытки. Пересадка на Республике, переходим на площадь Италии (я им сказал, что у меня невестка родила). А они все не отстают, так что я решил, что они хотят сверх программы трахнуть невестку и пришить меня прямо возле ее койки. В итоге ни фига. Довели меня до подъезда, где будто бы проживает моя невестка, и бросили у лифта, даже не попрощавшись.
– Какой же вывод?
– Неутешительный, сынок. Пионеры и не думали грабить бабушку Хо. Я бы сказал больше: они ее защищали. Вроде как телохранители. Они ее пальцем не тронули, а садистские сказки затем рассказывали, чтоб старушка наложила в штаны и перестала шляться по ночам, набитая деньгами, как иранский сейф. Вот это–то и беспокоит меня больше всего, сынок.
– Выходит, Серкер ошибается насчет бельвильской молодежи?
– Выходит, в этом старушечьем деле мы совершенно не за теми гоняемся. Что я, что этот буйвол Серкер.
Короткая итоговая пауза. Когда Тянь хмурился, то начинал немного походить на Габриэлу, жену Советника, когда ей вздумывалось примерить задумчивое лицо. В таких случаях Советник говорил Пастору: «Габриэла размышляет, Жан–Батист: в скором времени мы станем умнее». Обоих уже не было на этом свете – ни Габриэлы, ни Советника.
– Знаешь что, сынок? Я в Бельвиле уже месяц юбками трясу и в одном ручаюсь: старухи могут шляться по ночам в чем мать родила, и даже если они нацепят все семейное серебро и набьют пупы брильянтами – ни один наркоман их пальцем не тронет. Им дан приказ, и самый обдолбанный сопляк скорей подохнет, чем поднимет руку на какую–нибудь бельвильскую старушку. Не то чтоб они вдруг все перековались, нет, просто они тоже не дураки. На улицах полно ментов, вроде того же Ванини, ребятки все знают и не высовываются, вот так. Я не удивлюсь, если они первыми вычислят этого придурка с бритвой. Видишь ли, сынок…
И Тянь поднял на Пастора исполненный усталой мудрости взгляд.
– Видишь, какая штука жизнь, – я решил было первым поймать этого убийцу, до команды Серкера, ну просто чтоб красиво уйти на пенсию, сделать на прощанье подарок нашему Аннелизу, а тут вдруг оказывается, что я бегаю взапуски с молодежной сборной.
Инспектор Тянь встал, с трудом таща за собой тридцать девять лет служебного стажа, и перенес этот груз за свой письменный стол.
– А тебе, сынок, сегодня ночью что–нибудь перепало?
В ту же секунду дверь кабинета распахнулась и рассыльный из фотолаборатории кинул на стол Тяня пачку еще влажных снимков. Тянь долго смотрел на обнаженное тело женщины, казавшееся особенно белым от фотовспышки и угля, на котором оно покоилось.
– Те, кто сбросил ее в Сену, пустили мотор на все обороты, чтоб заглушить всплеск, – объяснил Пастор, – и не услышали, что идет баржа…
– Вот кретины…
– А на повороте потеряли бампер. Я его подобрал. Машина «BMW», найти будет нетрудно.
– Им что, насыпали под хвост соли?
– Возможно, действовали непрофессионалы. Или были под газом. Девице ввели наркотик.
– Нашел свидетелей?
– Одну девушку, которая играла на скрипке двумя этажами выше и смотрела в ночное небо. Да, кстати, она тебя видела по телевизору. Ты ее просто потряс. Отсюда и игра на скрипке…
Тянь не отвечал. Он медленно, задумчиво перетасовывал пачку фотографий.
– Что ты об этом скажешь? – спросил Пастор. – Шлюха, которую наказали для острастки?
– Нет, она не шлюха.
Инспектор Тянь был категоричен. И по–прежнему восточно–уныл.
– Почему ты так думаешь?
– Я посадил за сутенерство двух своих зятьев и трех их двоюродных братьев. До замужества моя жена трудилась на панели в Тулонском порту, а дочка у меня работает в доме призрения для бывших потаскух. Так что в чем, в чем, а в шлюхах наша семья разбирается. – И снова добавил, качая головой: – Нет, она не шлюха.
– И все–таки надо проверить, – сказал Пастор, заряжая свою пишущую машинку.
Именно за быструю и точную работу, за проверку всех данных и ценил Тянь Пастора. А ведь молодежь он недолюбливал. И особенно деток из приличных семей. Отец Пастора в бытность свою Государственным советником создал систему социального страхования – и для инспектора Ван Тяня, крупного потребителя лекарств, это было нечто непостижимое, вроде архиепископа Римской курии. Тяню были не по душе вынесенные мальчиком из семьи мягкие манеры, свитера, сослагательное наклонение глагола и невосприимчивость к ругательствам. И все же Тянь любил Пастора, сомневаться тут не приходилось, он любил его так, как любит сына губернатора его старая беспринципная нянька–туземка, и регулярно его об этом извещал, примерно в этот час ночи, под трели, выбиваемые их пишущими машинками.