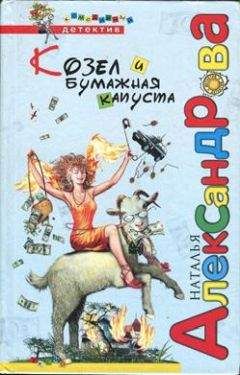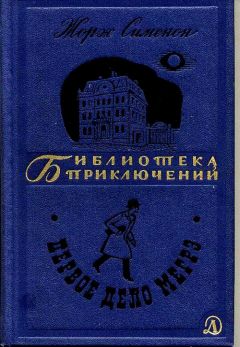И на пороге стоял действительно он.
Но в каком виде!
Лицо его, обычно уныло-бледное, горело лихорадочным румянцем, причем на левой щеке отчетливо виднелся еще более яркий след губной помады.
Редкие бесцветные волосенки, обычно расчетливо уложенные венчиком вокруг тускло отсвечивающей лысины, были сейчас растрепаны и торчали в разные стороны с таким разнузданным видом, будто Семен Петрович подался на старости лет в панки.
Скромная летняя рубашечка Семена Петровича, несколько поношенная, но совсем недавно аккуратно выстиранная и отутюженная Еленой Вячеславовной, была измята и украшена пятнами томатного соуса и, что гораздо хуже, той же самой яркой губной помадой. Более того, эта рубашечка, которую Елена Вячеславовна обычно называла устаревшим, но очень уютным и домашним словом «бобочка», совершенно безобразным образом выбивалась местами из-под пояса летних чехословацких брюк, созданных еще в незабвенные времена социалистической хозяйственной интеграции, а что самое ужасное — она, эта бобочка, была неправильно застегнута, то есть не на те пуговицы, что могло бы любую другую женщину, в сочетании со следами вульгарной помады, привести в состояние ярости, переходящей в аффект.
Любую другую женщину — но только не Елену Вячеславовну. Потому что Елена Вячеславовна очень верила в своего мужа.
Она не столько верила в его высокие моральные качества, находящиеся на грани патологии и приближающиеся к известному некогда «моральному кодексу строителя коммунизма», сколько верила в то, что ни одна находящаяся в здравом уме женщина не может заинтересоваться таким представителем мужского поголовья.
Елена Вячеславовна скорее готова была объяснить пятна помады на лице и одежде своего мужа взрывом в парфюмерном магазине, мимо которого по случайности проходил Семен Петрович, чем его неожиданными успехами на амурном фронте.
Но в любом случае все это: пятна, пуговицы, невероятно долгое отсутствие, необычный звонок и, главное, совершенно невменяемый вид Семена Петровича — все это требовало немедленного и удовлетворительного объяснения.
— Сеня, Сенечка, — проговорила Елена Вячеславовна, вплотную приближаясь к своему суровому мужу и повелителю, — Сенечка, где же ты был так долго?
Оказавшись в непосредственной близости к мужу, она сделала еще одно открытие: от мужа пахло алкоголем. Несло дешевой водкой.
Может быть, для какой-нибудь другой женщины такое открытие было бы в порядке вещей, но только не для нее. Семен Петрович, при всех его недостатках, пьяным домой не приходил никогда.
— Семен! — воскликнула Елена Вячеславовна, в очередной раз хватаясь за сердце. — Семен, что это? Ты пьян?
Необыкновенный этот факт настолько не умещался в ее сознании, что она готова была принять любое, самое фантастическое объяснение мужа, лишь бы оно хоть как-то, хоть приблизительно вписывалось в вышеупомянутый моральный кодекс.
Но муж не оставил ей ни малейшей надежды.
— Да, я пьян! — сладострастно и с явным удовольствием сделал он это кошмарное признание. — Я напился! И нисколько этого не стыжусь!
— Семен, как ты можешь! — Елена Вячеславовна, бледнея и дрожа, отступила к двери кухни, которая, по-видимому, казалась ей более безопасной территорией.
— А вот могу! — орал блудный муж, надвигаясь на перепуганную жену с неотвратимостью айсберга, заприметившего на горизонте свой «Титаник». — А вот я теперь, может быть, вообще буду пить! Ты мещанка! Что ты понимаешь в жизни! Ты со своими болезнями заела мою жизнь! Ты никогда меня по-настоящему не понимала! Да кто ты такая? Ты... да ты просто... учительница!
Последнее слово показалось ему наиболее унижающим и выражающим всю меру его презрения к жене. И Елена Вячеславовна почувствовала это, поняла, как оскорбительно в устах мужа прозвучала ее профессия, профессия, которой она отдала не то что лучшие годы, потому что лучших лет в ее жизни попросту не было — профессия, которой она отдала всю свою жизнь...
Елена Вячеславовна закрылась на кухне, уткнулась лицом в милую ее сердцу клетчатую клеенку и горько зарыдала.
А Семен Петрович, гордо задрав голову в реденьких растрепанных волосиках и нетвердо ставя ноги на сильно выношенный венгерский линолеум, удалился в семейную спальню, рухнул на кровать, в чем был — в перемазанной соусом и помадой бобочке, в чехословацких сильно помятых брюках и в дешевых отечественных кроссовках «Динамо», — и мгновенно заснул, оглашая всю квартиру несоответствующим его тщедушной комплекции богатырским храпом.
Наутро Вадим был со мной сух и за завтраком глядел в сторону, но я решила не обращать на такие мелочи внимания. К тому же времени было мало, меня ждали дела.
Вадим уехал в больницу, а я выяснила интересную вещь: оказывается, хоронить Павла должны были на Охтинском кладбище. Кладбище очень старое, и теперь там не хоронят, потому что нет места — город подступил со всех сторон и некуда расширяться. Но родственники добились разрешения хоронить в старую семейную могилу. Какие-то там были сложные подсчеты — через сколько лет можно хоронить, через сколько нельзя, и сколько денег нужно заплатить. В общем, хлопоты их увенчались успехом, и похороны состоятся на Охтинском кладбище.
Это навело меня на мысль о ловушке. Ее надо устроить на кладбище. Я была как-то с Павлом на могиле его деда и обратила внимание, что там совсем рядом самая старая часть кладбища. Много заброшенных могил, но место не запущенное — то ли делали раньше на совесть все, особенно памятники и склепы, то ли какой-никакой уход все же за этой частью кладбища и теперь есть.
Вадим прав, нужно устроить ловушку, чтобы понять наконец, кто же такой этот самый шантажист и убийца Павла. Его не очень логичные поступки меня начинали нервировать. Кладбище — самое удобное место для такой ловушки.
Выдалась свободная минутка, и я позвонила Вадиму.
— Слушай, вечером я пойду ночевать в свою квартиру.
— С чего это? — не очень вежливо поинтересовался он. — Разве я тебе мешаю? Что вчера разбудил — извини, больше не повторится. И вообще, ты меня не так поняла.
— Я совершенно правильно тебе поняла! — окончательно вскипела я. — И ты не думай, пожалуйста, будто я подозреваю, что ты хотел покуситься на мою добродетель.
Я сама утомилась от такой длинной и запутанной фразы, Вадим же угрюмо молчал.
— Я и не думаю, — наконец буркнул он.
— Нет, думаешь, и вообще ты слишком много думаешь! Нужно действовать!
Я бросила трубку и начала действовать, то есть сорвалась с места и устремилась в свою собственную квартиру. Блокнот Павла я на всякий случай оставила у Вадима, надеясь на то, что если шантажист решит укокошить и меня, то не станет наступать дважды на одни и те же грабли, а убедится сначала, что записная книжка действительно в моей квартире. Если же он ее не найдет, а это, естественно, так и будет, то я начну торговаться, и тогда Вадим придет мне на помощь.
Возле моего дома все было по-старому, старухи все так же сидели на скамейке, и музыка неслась из окон. Я поздоровалась с бабушками и даже удостоилась ответного приветствия, чего не случалось раньше. Я удивилась, но потом решила, что все пережитое за последнее время наложило на мое лицо печать серьезности и ответственности, поэтому бабули прониклись ко мне если не уважением, то добрыми чувствами.
Дома по-прежнему царил кавардак, к которому прибавился еще и толстый слой пыли на мебели. Чтобы не расслабляться, я принялась за уборку. Я рассчитывала, что шантажист непременно позвонит. Вот она я — сама пришла в квартиру, так что милости просим, запугивайте на здоровье! Но он что-то медлил.
Когда я уже полностью привела квартиру в порядок, сменила постельное белье и даже выбила подушки на балконе, я спохватилась, что не выбрала одежду к завтрашнему печальному событию. Как-никак я буду на виду, должна выглядеть соответственно. После долгих поисков я обнаружила в шкафу темно-серое, почти черное платье, которое не носила уже лет пять. Платье было куплено в те времена, когда я еще училась и жила случайными заработками. Странно, тогда мне казалось, что смотрелось оно вполне прилично, теперь же, примерив платье, я выглядела в зеркале уныло. Что ж, очень подходяще для роли безутешной вдовицы, хоть и соломенной. Я отыскала даже черную газовую косыночку, чтобы повязать ее на голову и полностью войти в образ.