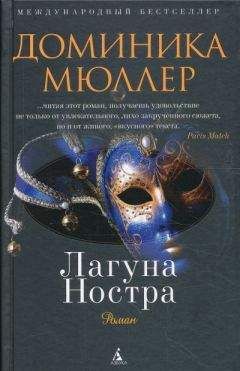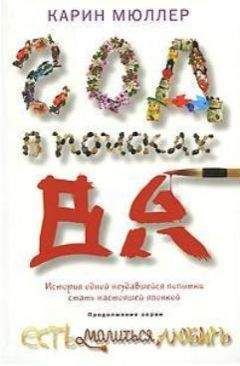Альвизе замолчал, расчувствовавшись. Он обернулся к Кьяре, улыбнулся ей и похлопал по руке, словно это она собственной персоной лежала тогда на кафельном полу в душевой. Затем уничтожающе посмотрел на меня. Из-за моей бестактности им пришлось снова ворошить эти тяжелые воспоминания.
Новорожденный появился на свет при не самых благоприятных обстоятельствах: без имени, без документов, без родителей, но его рождение ознаменовалось таким триумфальным криком, что, глядя на этот крошечный сгусток энергии, Альвизе, дежурный врач и судмедэксперт испытали втроем радость отцовства. Когда «скорая помощь» увезла его в больницу, трое мужчин, не отличавшихся особой сентиментальностью, хором вздохнули, печалясь о судьбе этого малыша, рожденного мертвой матерью. Матерью, которую убил собственный сын, появляясь на свет, поправила его Кьяра, прекрасно разбирающаяся во внутриутробных психологических травмах, последствия которых она пытается искоренять у своих взрослых пациентов. Альвизе пытался установить происхождение ребенка, прежде всего ради него самого и, кроме того, чтобы удостовериться, что тот не был предназначен на продажу. Мы с дядюшками пребываем в беспечности, сидя в нашей башне из слоновой кости. Нам и невдомек, что женщины специально приезжают к нам рожать на заказ детей, которые, едва выйдя из материнской утробы, поставляются бездетным парам. И искать концы этого гнусного бизнеса можно до бесконечности. Конечно, определить происхождение какой-нибудь картины куда как проще, заметил Альвизе. У него не выходило из памяти это маленькое существо, которому он, так сказать, помог появиться на свет. По счастью, Кьяра была знакома с президентом ассоциации «Права человека для всех». Ярая правозащитница, гроза местных властей, та взялась помочь им получить временную опеку над новорожденным, проявляя в помощи Альвизе столько же рвения, сколько занудства она проявляла во взаимоотношениях с комиссаром Кампаной. Появление младенца в палаццо в самый канун дня рождения его новой мамы, пребывавшей на седьмом небе от счастья, казалось благословением Небес. Альвизе не принадлежит к числу ревностных католиков и обращается за помощью к Господу лишь в тех случаях, когда боится совершить глупость. Так, он пригласил на свою помолвку патриарха из собора Святого Марка и двух римских кардиналов — чтобы отрезать себе пути к отступлению. А с этим младенцем — кто скажет, не придется ли потом его возвращать? Никто не знал, откуда его мать родом. Организатор трафика тоже оставался неизвестным. А пока следствие идет своим ходом, пусть этот карапуз понежится в тепле всеобщей любви, как нежился бы хрупкий отпрыск семейства Кампана — маленькая веточка на фамильном древе в андроне. Альвизе снова обернулся к жене и благоговейно погладил ее по щеке, будто поклоняясь Леде, помещенной в центре космического яйца и объятой лебедем-оплодотворителем[11]. Если транспонировать эту поучительную картину на наше время, становится ясно, что у Альвизе нет ни малейшего желания отыскивать семью, которой он должен был бы отдать ребенка, и что, совсем наоборот, он хотел бы оставить его себе. Зачем тогда утверждать обратное? Лучшим решением было бы прекратить поиски, чтобы уничтожить малейшие следы его происхождения, заметила я. Тогда Альвизе хоть в чем-то станет как все, а не будет только комиссаром полиции. И это будет хорошо. Ему останется лишь подать прошение об усыновлении этого пупса, которого я, не найдя более подходящего слова, назвала отростком.
Кьяра дала ему имя Виви — так наша мама величала в детстве Альвизе. И если я думаю, что распутать этот клубок, отыскав отца или других родственников, так просто, то я ошибаюсь. Женщина-психотерапевт, изнуренная излияниями пациентов, с неменьшей самоотдачей выслушивала в приюте косноязычные признания нелегалов, выбиваясь из сил, чтобы распутать семейные связи малыша, в то время как Альвизе действовал под эгидой Закона и Правосудия. И мои инсинуации наносят оскорбление этой достойной всяческого восхищения паре, которую я, кажется, подозреваю чуть ли не в попытке киднепинга. Да и Виви не заслуживает, чтобы его обзывали отростком, не хватало еще, чтобы его посадили в цветочный горшок!
Игорь, у которого вот-вот должны были дотушиться его тандури, принялся размахивать руками и, соскользнув с кресла, упал на колени на терраццо{5}. Своим певучим голосом он сравнил Виви с Моисеем, пущенным в корзине на волю волн и принесенным «большой водой» к палаццо Кампана. Вещи таковы, какими им должно быть. Останется Виви здесь или исчезнет, это зависит от его кармы. Карма же Игоря состоит в том, чтобы восстанавливать мир и гармонию, без которых люди были бы отданы во власть планетарному хаосу. И сегодня, если мы все не успокоимся, карма Виви может быть навеки испорчена, особенно если потом ему предстоит превратиться в этого, как его, ну или в другого, — в общем, там, в дальних странах. Как он восстановит там свою карму, а? На нормальном языке это означало, что мы сейчас разбудим ребенка, он разорется, а следовательно, на дегустации блюд, на приготовление которых у Игоря ушло два дня и целое наводнение, можно будет поставить крест.
Я принесла свои извинения. Слово «отросток» в моих устах не имело никакой уничижительной окраски. Наоборот, оно символизировало питательную функцию природы и связь ребенка с землей, как это представлено у Пьеро делла Франчески, на его полотне из Музея Эшмолеан в Оксфорде, не говоря уже о миниатюре из книги Хильдегарды Бингенской, что хранится в Висбаденской библиотеке, где небесная утроба соединена шнуром с материнским чревом. Не зная, что и думать, Альвизе тяжело вздохнул и продолжил изложение дела. Если его что-то и беспокоило, так это труп с канала Сан-Агостино, из-за которого он не мог спать спокойно. Как только его обнаружили, он попросил коллег из региона сообщать ему обо всех случаях насильственной смерти. Ему хотелось сопоставить места преступления и способы убийства, найти точки соприкосновения. В то же утро он съездил в Падую, где убийца забрался в окно к богатой пенсионерке и задушил ее целлофановой пленкой. Вероятность того, что падуанское дело окажется связанным с его собственным, была ничтожна, но он не забывал, что весь его путь был вымощен вероятностями — до тех пор, пока их не опровергали факты.
Несмотря на скудость улик, он неплохо продвинулся. На одежде убитого были обнаружены этикетки лондонских производителей, оказавшихся весьма разговорчивыми. Портной фирмы «Тернбулл и Эйсер» и обувщик Клеверли опознали мертвеца по снятым с него меркам. Это был сорокалетний мужчина, разведенный, живший на ренту по одному из самых изысканных адресов Лондона. Вскоре на опознание должны были приехать трое его детей, и Альвизе надеялся узнать о нем наконец побольше. Вполне возможно, что его родные, как и родные маленького Виви, не расскажут ничего нового, заметила я. Все полицейские жалуются на недостаточность свидетельских показаний. А ведь показания близких часто бывают искажены: люди убеждены, что давно что-то знают о жертве, а на самом деле они просто привыкли так думать. Вот если бы он показал мне труп в морге, то мои выводы, свободные от какой-либо предвзятости, могли бы быть полезнее любого опознания, заметила я, на что брат замахал обеими руками, словно стряхивая приставший к ним клей. Альвизе страшно раздражает меня своей маниакальной скрытностью. Он только жалуется нам, своим родным, вместо того чтобы спросить нашего вполне просвещенного мнения, и это меня ужасно злит. Я часто замечала, что те, кого я больше всего люблю, больше всего меня раздражают. Может быть, этого оттого, что меня нисколько не волнует, что думают, говорят и делают другие люди, а может, я просто люблю только тех, кто меня раздражает. И то, что его труп покинет морг сразу после опознания, а мне так и не будет позволено его осмотреть, показывает, как мало он ценит мое мнение. Так я и сказала Альвизе. Нравится это комиссару Кампане или нет, а у моей ненормальной профессии и его собственной все же есть кое-что общее. Когда историк искусств исследует неизвестную картину, он публикует ее репродукцию и свои гипотезы в надежде, что какой-нибудь другой исследователь прольет на них свет. Кьяра, за весь вечер почти не раскрывавшая рта, приняла мою сторону — в честь своего дня рождения, спящего ребенка и всего нашего узкого кружка, собравшегося вокруг переноски Виви. Я думаю, Альвизе побаивается своей жены. Он просто не понимал, что это могло бы изменить — если мы будем знать имя того человека. Эдвард Волси-Бёрнс — так его звали.
Но для Бориса это меняло все. Этот Волси-Бёрнс звонил ему от имени Майкла Симпсона, директора галереи «Хэзлитт», где была выставлена «Кающаяся Мария Магдалина» кисти Карло Маратты[12]. Бориса не интересуют ни младенцы, ни нелегалы, ни расследования преступлений. Больше всего на свете его интересует рынок живописи, который он осаждает в течение последних двадцати лет. Борис — это ахеец, зачарованный богатствами Трои, однако начисто лишенный какой бы то ни было хитрости, которая позволила бы ему построить Троянского пусть не коня, но хотя бы пони, — наивный простак в мире хищников. Его речь представляет собой нагромождение имен, которые сокрушительной лавиной обрушиваются на его собеседников (всех, кроме меня). Майкл Симпсон «Кающуюся Марию Магдалину» не продал, но, узнав, что Волси-Бёрнс собирается ехать в Неаполь, Рим, во Флоренцию и в Венецию, через всю страну, с юга на север, следуя маршрутом скоростного поезда, направил коллекционера к Борису — взглянуть на его предполагаемого Маратту.