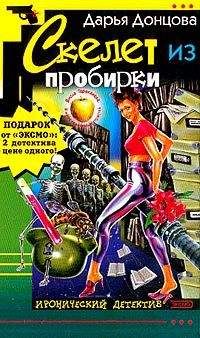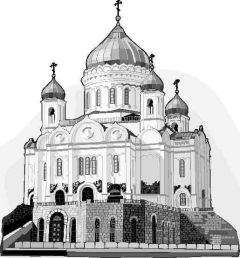– Нюся!
Ответом была тишина.
– Ну и где она? – прошипел вошедший следом Антон. Я перевела дух и огляделась. В доме не пахло тлением. Напротив, было тепло и уютно. На окнах появились занавески, на столе скатерть, кровать аккуратно застелена и топорщится подушками, а в воздухе витает аромат свежесваренной картошки.
У окна, на маленьком письменном столике, за который меня в свое время усаживала мать Раисы, заставляя выполнять заданные на лето уроки, лежала стопка тетрадей, самых простых, в серо-зеленых бумажных обложках, и стояла чернильница-непроливайка. Рядом, на специальной подставочке, покоилась старомодная ручка-"макалка" со сменным перышком. Я видела подобное приспособление для письма последний раз лет двадцать тому назад в почтовом отделении, куда пришла отправить телеграмму.
– Ну и где моя жена? – злобно прошипел Антон. – Имей ввиду…
«Хряк, – раздалось со двора, – хряк, хряк…» Не сговариваясь, мы, словно солдаты срочной службы, сделали поворот через плечо, выскочили из избы и понеслись на задний двор. Там, возле открытой двери сарая, стояла девочка-подросток: тоненькая, даже хрупкая, в старой кацавейке, туго перепоясанной ремнем. На ногах у девчонки чернели калоши. Стоя к нам спиной, девица, ловко орудуя топором, расколола чурбак и принялась подбирать поленья. Значит, к какой-то из бабок приехала внучка и они приставили девочку к делу. Забили свои сараюшки дровами, а теперь еще заполняют и наш. Зима длинная, запас карман не тянет.
– Девушка, – крикнула я, – не знаете ли… Та обернулась. Конец вопроса застрял у меня в горле. На меня смотрела замечательно похудевшая и помолодевшая лет на двадцать Нюся.
– Ариша! – завопила она, бросая топор. – Уже приехала? Я попятилась и закивала.
– Нюся! – взвыл Антон. – Это ты?! Не может быть!
– Может, может, – захохотала та, – пошли в избу, у меня картошечка своя, не купленное говно, с огорода, ровно яблочко, огурчики малосольные, пальчики оближете.
В полном ступоре мы прошли назад в избу. Нюся стащила кацавейку и оказалась в стареньком ситцевом платьишке, в котором я с изумлением узнала свое собственное, брошенное когда-то тут за ненадобностью. Пока я пыталась выдавить из себя слово, Нюся шлепнула на стол горшок с картошкой и стала рассказывать.
Первое время ей было тяжело и ужасно скучно, день тянулся, как резиновый, но потом она слазила на чердак, нашла там сундуки, набитые тряпьем, и швейную машинку. Бабки показали, как топить печь, рубить дрова Нюся научилась через два дня, с керосиновой лампой управляться еще раньше.
– Баня тут у меня, – звенела Нюся, – не чета Сандунам. Зайдешь, сердце радуется, а запах! Хотите, истоплю? Антон во все глаза глядел на жену.
– А еще, – тарахтела Нюся, – нашла чистые тетрадки, чернила и ручку. Я, Антоша, новую книгу написала, да быстро как – за десять дней. Сейчас вторую кропаю. Господи, сколько же времени я потеряла, по тусовкам шляясь! Ты, Антоша, извини, но пока не допишу роман, и с места не сдвинусь. Слушай, Аришка, продай мне эту избу, а? Тебе же она не нужна! Все, решено. Ты, Антоша, уезжай, я приеду через месячишко, а может, и через два, до холодов тут поживу. Хотя зимой здесь, наверное, классно – тихо, все в снегу…
Я не нашлась что ответить.
– Так продаешь избу? – налетела на меня Нюся.
– Я тебе ее подарю, все равно она нам не нужна, – отмерла я.
– Нюся, – наконец обрел дар речи и Антон, – как ты выглядишь Похудела, помолодела, прямо красавица. Подруга смущенно хихикнула:
– Да уж, хорошо, в сундуках одежонка нашлась, а то ходить бы голой.
Антон повернулся ко мне – Ты уезжай домой, мы тут с ней недельку поживем.
– А бизнес? – прищурилась Нюся.
– Ну и чего? – вскинул брови муж. – Может, я хочу тут с тобой, такой молодой и красивой, вдвоем время провести, в баньку сходим Антон и Нюся уставились друг на друга туманными взглядами. Чувствуя себя абсолютно лишней, я выпала во двор, добрела до «мерса» и сказала шоферу:
– Поехали назад.
– А Антон Михайлович? – удивился водитель.
– Тут решил жить остаться.
– Вы шутница, однако, – покачал головой парень и пошел к избе. Через пять минут, подгоняемый гневными криками хозяина, он сел за баранку и, выруливая на дорогу, заворчал:
– Офонареть можно. Прямо не знаю, чегой-то с людьми делается.
Я молча сидела в углу кожаного салона, глядя, как за окном проносятся деревья. «Что делается, что делается…» Что непонятного: второй медовый месяц у людей, в деревне, на печке. И еще, теперь я знаю, какой фразой начну свою новую книгу: «Что нас не убивает, то идет нам на пользу».