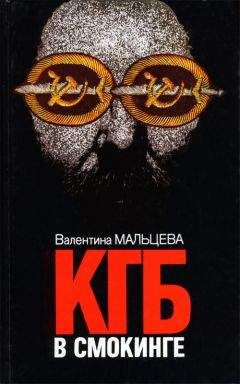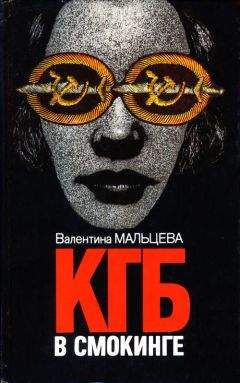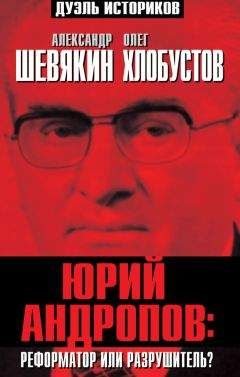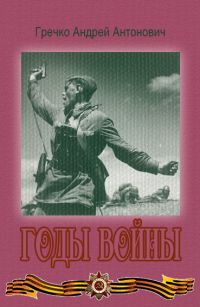— А ты везучая, Мальцева, — шепнул прямо мне в ухо Матвей.
— Этим я могла бы поделиться даже с тобой, говно в мундире, — пробормотала я. — Не жалко…
— А что, разве нет?.. — Тополев продолжал шептать, как начинающий суфлер, не опуская пистолет и не отрывая взгляд от двери. — По моей прикидке, ты уже получила в подарок как минимум месяц жизни. И какой!
— Господи, — вздохнула я. — Если бы я действительно была везучим человеком, ты бы, Тополев, чаще посещал дантиста…
— Грезишь, Мальцева? Это запах смерти.
— Не ври, подполковник: это запах трех или четырех кариесных зубов, истосковавшихся по врачу-еврею и мятной пасте за семнадцать копеек. Так что запомни, урод, мое слово: вместе с пистолетом в кобуру нужно класть не бутерброд с балтийской килькой, а зубную щетку. И пользоваться ею. Если не знаешь, как чистят зубы, попроси инструкцию в кремлевской аптеке. И не сопи так! Это просто совет незамужней женщины. Мотай на ус, пока я жива…
— Ты знаешь, — Тополев придвинулся еще ближе и практически запечатал влажными губами мое ухо, — порой, когда я представляю себе, сколько же вас развелось в России, скольких вы успели обдурить, обсмеять, оболгать, мне становится по-настоящему страшно…
— Ты не оригинален, Тополев. Гитлеру тоже было страшно.
— Он был идиотом.
— Он был таким же, как ты, Матвей. То есть мерзавцем и психом. Разница между вами лишь та, что у него власти было побольше…
— Но и моей власти, Мальцева, хватит с избытком, чтобы ты навсегда заткнулась.
— Ну и что? Моя смерть приведет к развалу мировой системы сионизма? Евреи перестанут поступать в вузы и повалят в ПТУ? Доклады Брежневу будет писать Расул Гамзатов?..
— Тсс! — Мой рот, нос и часть подбородка мгновенно оказались погребенными под горячей ладонью Тополева. Конечно, с широкой дланью незабвенного бровеносца Андрея его руку сравнить нельзя было, однако сила, с которой мне зажали рот, вызывала уважение.
В дверь коротко стукнули.
— Я же говорил, что ты везучая, — буквально прошелестел над моим ухом Матвей. — Бог дарит тебе еще несколько минут. С таким счастьем лотерейные билеты покупать надо.
— Как же! — прошипела я. — Выиграешь у нашего государства!
— Ответь!
Этот приказ Тополев сопроводил болезненным тычком ствола в мои ребра.
— Кто? — сварливо осведомилась я.
— Это я, Аркадий! — тихо откликнулся легионер.
Матвей встал и передернул затвор пистолета.
— Почему вернулся?
— Открой, кое-что случилось…
— Сейчас… — Тополев рывком поставил меня на ноги и резким движением перерезал веревку на руках. Я уже разинула было рот, чтобы возмутиться этим произволом, но буквально наткнулась на змеиный шип Тополева:
— Ни звука! Одно слово — и пуля у тебя в затылке!
— Но там же свои! — напомнила я.
— Свои дома сидят. Иди открывай. И без фокусов…
От дивана до двери было шагов восемь-девять. По всей вероятности, последних шагов в моей жизни, ибо я достаточно ясно понимала, как ничтожно малы шансы живца-приманки с инвентарным номером КГБ, если в нее вот-вот готова вцепиться здоровенная рыбина, а ту, в свой черед, подстерегает пара опытных рыболовов. Я и мысли не допускала, что Аркадий нарушил приказ, самовольно явившись, вместо поисков Витяни и разогрева машины, туда, где его никто не ждал, — в мой номер. Следовательно, за дверью творилось то же, что и по эту сторону: Аркадий, как попка-дурак (или как В. В. Мальцева), повторял то, что велел ему сзади человек с пистолетом. А поскольку я уже утратила после инцидента в вагоне слабую надежду увидеть тело Виктора Мишина с подвязанным подбородком, то могла смело ставить несколько оставшихся мне секунд жизни против самых дорогостоящих туалетов парижского дома «Коко Шанель» на то, что за спиной Аркадия стоит Витяня. Конечно, это был шанс для меня, но очень уж призрачный. Особенно если учесть, что и Тополев наверняка предвидел этот вариант и занял во всех отношениях удобную позицию — строго за моей спиной. Впрочем, если вдуматься без паники и предвзятости, все мужики, даже самые лучшие, в экстремальных ситуациях прячутся за спины женщин. А Тополев был далеко не из лучших…
До двери оставалось не более двух шагов, когда силы окончательно покинули меня. Ощущение было такое, словно к каждой моей ноге была цепями прикована стокилограммовая гиря.
— Ну?! — прошипел Тополев. — Открывай!
— Я не могу.
— Считаю до двух. Если не откроешь, то…
— А почему не до трех? — вопрос был как раз из тех, какие задает душа, наполовину покинувшая тело. — В кино обычно считают до трех…
— Раз, два…
— Идиот! — крикнула я так, что плафоны гостиничной люстры качнулись во тьме. — Я действительно не могу, понимаешь, кретин подоночный?! У меня ноги отнялись от страха!..
В этот момент за моей спиной раздался страшный грохот. Такой стеклянно-скрежещущий эффект могло вызвать лишь прямое попадание легкоатлетического молота в «горку», заботливо набитую коллекционным хрусталем. И почти сразу я услышала:
— А ведь она не лжет…
Дальнейшее произошло настолько стремительно, что, даже обернувшись на родной голос через какую-то долю секунды, я увидела лишь окончание действия — чью-то взметнувшуюся руку, хруст и какое-то расчлененное, словно снятое в «рапиде» падение Матвея Тополева прямо к моим ногам. Юджин — улыбающийся, растрепанный, в распахнутой синей куртке, стоял на фоне вдребезги разбитого оконного стекла, как доброе новогоднее привидение, а мягкие хлопья снега, усыпавшие его плечи и волосы, только усиливали этот эффект.
Господи, я так ждала этого момента, так мучительно представляла себе свое освобождение, его возле себя, эту улыбку, в сравнении с которой все родины мира — не более чем контуры на географической карте… А дождавшись наконец, с ужасом почувствовала, что даже пальцем шевельнуть не могу!..
— Ты что, Вэл?! — улыбка на лице Юджина сменилась тревогой. — Ты ранена?
Не в силах сказать хоть что-нибудь путное, я кивнула.
— Куда ранена? — расстояние от окна до места моего мгновенного паралича Юджин преодолел в один шаг и сгреб меня в охапку. — Куда ты ранена, Вэл? Говори же, не молчи!..
— В голову и сердце.
— Ты шутишь?
— С любовью не шутят, родной…
31 декабря 1977 года
Все дальнейшее происходило так, словно меня положили на больничную койку, подключили к кислородному баллону, в кислород поддали немного наркотика и превратили происходящее в милый, нестрашный сон, когда знаешь, что ты сама, хоть и являешься не только свидетельницей, но и реальной претенденткой на малопочетное звание покойницы, можешь в любой момент проснуться целой и невредимой в собственной постели.
Впоследствии Юджин сказал мне, что именно тогда он всерьез опасался за мою психику.
А происходило вот что.
Усадив меня в кресло и набросив мне на плечи плед, Юджин достал из внутреннего кармана куртки плоскую посеребренную флягу, наполнил треть стакана янтарно-желтой жидкостью, сунул мне напиток в руки, сказав почему-то с грузинским акцентом «Пей до дна!» и открыл дверь. Последующие события я воспроизвожу со стенографической точностью, но без личных комментариев, поскольку не смогла бы тогда осмыслить даже задачку на два действия.
Первым в комнате показался как-то разом осунувшийся Аркадий. Его пальцы были сплетены на затылке, да и весь вид бравого ликвидатора оставлял, как говорится, желать. За Аркадием, на некотором расстоянии, в комнату вошел официант с пистолетом. Тот самый, которого один из легионеров буквально пару часов назад пнул ногой в корму и который ползал на коленях по полу номера Мишина. Официант протянул Юджину пистолет, затем кивнул на лежащего Тополева и спросил:
— Готов?
— Пока что нет.
— Ясно… — официант скосился на меня, сказал на прекрасном русском: «Привет, подружка!», потом поднял с пола веревки, коротким тычком заставил Аркадия принять вид буквы «Г», с неподражаемым изяществом стянул вместе руки и ноги легионера и, свалив его вторым тычком на диван, направился в ванную.
— Это… кто? — спросила я Юджина, когда дверь за официантом закрылась.
— А ты не узнала?
— Витяня?
— Витяня.
— И ты?
— И я.
— Вы… вместе?
— Мы вместе, Вэл. Ты и я.
— А он? Он… он убийца, Юджин! Он убивал людей.
— Я знаю, родная. Я все знаю.
— Но тогда почему?..
— Ты выпила до дна?
— Нет. Я не могу. Это похоже на лак для волос.
— И все же выпей. Этот лак употребляют свыше ста миллионов американцев. Даже по утрам. Ничего у тебя от него не слипнется.
— Что с нами будет, Юджин?
— Все будет о’кей.
— Американцы говорят так даже по пути в морг.