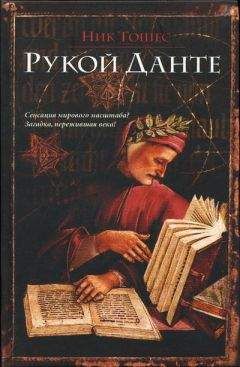Но рассуждая определенным образом, мы приходим к выводу, что Борджиа, несмотря ни на что, возможно, более святы, чем большинство, потому как вместо того, чтобы осквернять золотом и камнями, они срывали эти знаки скверны. Разве слова вашего Чьело менее чисты, менее прекрасны без камней и золота? Говоря об этом холме с дикими бледными розами и музе Чьело, вы не упоминаете ни о драгоценных камнях, ни о золотых жилах, пронизывающих обычный камень этого холма. Так же и с Церковью, которая, согласно завету Христа, должна была стоять на невзрачном камне святого Петра. Слишком часто мы с восхищением и трепетом созерцаем камень, облагороженный Микеланджело и Бернини, но забываем о скромном камне духа, вызвавшем их к жизни. Слишком часто мы с большим трепетом и восхищением воспринимаем красоту или своеобразие формы книги, чем то, что заключено в ней.
Форма и содержание. Плоть и душа. Священник из Алькамо часто размышлял о таких вещах. Принять содержание и душу означало жить в свете духа. Принять или даже возжелать форму и плоть означало жить в скверне. Борджиа оскверняли книги. Всеохватывающее вожделение Бонифация — жажда мирских наслаждений, стремление к власти — включало в себя и страсть к книгам.
Для священника из Алькамо, всю жизнь исполнявшего обет безбрачия, книги стали плотью и формой, перед которыми он не устоял, которые принял и которых возжелал. Он ласкал кожу украшенных рисунками манускриптов, как другие ласкают кожу раскрашенных женщин. Запах старинных переплетов пьянил и дразнил его, как аромат духов. Вынуть из библиотечного хранилища записную книжку Петрарки и положить свою руку туда, куда клал ее поэт, было для него экстазом скорее плотской чувственности, чем души. Таково было его вожделение, таков был его грех. Но в отличие от Бонифация он не считал этот грех таким же незначительным, как отирание руками. Почти ежедневно он сознавался в своем вожделении перед Богом и почти ежедневно каялся в грехе, но притом все более потакал и уступал ему. О чем он умалчивал в разговорах с префектом, так именно об этом и еще, о том, что кованое золото и драгоценные камни искуснейшей работы стали для него столь же пленительно дороги и священны, как и для грабителей Борджиа были дороги и священны золото и камни, украшавшие их дражайшую и жесточайшую Лукрецию.
И конечно, священник умалчивал о грехе кражи, своем величайшем грехе, который, однако, не вызывал у него чувства стыда. Дитя того волшебного холма, он вырос и на других холмах.
Судьбу мальчика из Алькамо, обрекшую его на платье школяра и платье священника, определил дон Джованни Лекко из Пьяна дельи Альбанези, вкладывавший свои слова в души тех, кто служил ему в Палермо. В те времена дон Лекко был молод и силен и говорил не столько словами, сколько оружием и молчанием. Все знали историю о том, как он под крышей родительского дома убил ставшего ему перечить собственного отца, вытащил тело на улицу и бросил неподалеку от открытой двери. Потом на протяжении нескольких дней убивал всех местных и приезжих, кто являлся за телом, дабы предать его земле, и оно, распухшее и разлагающееся, лежало до тех пор, пока улица не заполнилась вонью и другими телами и пока из Палермо не прибыли двое мужчин, одетых не в траурно-черное, а в белое, и эти люди, остановившись в отдалении, не сняли почтительно шляпы перед гротескно раздувшимся трупом того, кому они служили, но их старший показал открытую руку замершему у порога вооруженному сыну, а двое других достали пистолеты и выстрелили в тело отца, потом повернулись к сыну и, сняв уважительно головные уборы, медленно приблизились к дому и вошли в незакрытую дверь, которая впервые за все это время захлопнулась за ними. Тогда только на улицу вступили двое полицейских, а потом приехала повозка, чтобы увезти тела. Как рассказала мать, бойня произошла из-за того, что сын прознал о супружеской неверности отца.
Это было очень-очень давно. Мало кто помнил о том кровопролитии. Многие помнили доброту. Дон Лекко был добрым человеком.
В местечке Пьяна дельи Альбанези законом все еще оставался канон Лека. Легендарный Лек принес скрижали установлений древним албанцам. То были законы кровной мести. В соответствии с каноном Лека мужчина, находящийся под крышей своего дома, мог убить любого, оказавшегося под той же крышей. Будучи потомками албанцев, обосновавшихся в этих местах несколько столетий назад, жители Пьяна дельи Альбанези превыше всего верили в две вещи: Церковь и канон Лека. Те, кто знал об этом, знали и то, что честь почтенного общества Сицилии зиждилась на кодексе кровной мести, существовавшем издревле на земле их предков. Подобно своим единокровникам, дон Лекко страстно гордился этой древней кровью, а потому с превеликим удовольствием позволил другим интерпретировать итальянизированное эхо своего имени в том смысле, что сам он является потомком великого Лека.
В свои восемьдесят девять дон Лекко оставался крепким и молчаливым и при ходьбе опирался лишь на палку. Он жил одиноко в доме из тысячелетнего камня, с престарелой служанкой, престарелой кухаркой, престарелым охранником и престарелым волкодавом. Окна дома из тысячелетнего камня, обвитые плющом, выходили на сад, окруженный тысячелетними деревьями. Там был фонтан, сохранившийся, как говорили, со времен Римской империи; выпускавший струю дельфин давно превратился в бесформенное, поросшее мхом нечто, и тихий ручеек изливался на белые водяные лилии. Обнесенный стеной сад вел к узкому проходу, заканчивавшемуся воротами, которые выходили на улицу.
Каждый раз, возвращаясь на Сицилию, священник из Алькамо навещал дона Лекко и проводил для него службу. Дон Лекко отличался от других. Он всегда гордился священником и его посещениями.
Приближалось празднование девяностолетия дона Лекко, и однажды в хранилище греческой коллекции священник обнаружил рукопись шестнадцатого века, известную как «Служебник» Бузуку: старейший документ на албанском языке, сохранявшийся с далеких времен и по сию пору исключительно в устной форме, увековеченный лишь ветром и неписаным кодексом, скреплявшим слово мужчины одной только клятвой.
И священник украл манускрипт.
А старый дон Лекко, который не мог прочесть ни слова в этой рукописи, прижал фолиант к груди и привлек гостя к себе, чтобы поцеловать.
Священник вернулся в Рим, чувствуя, что уже никогда не увидит дона Лекко, если не считать похорон. Он представлял, как погребет книгу вместе с ним, положив ее под голубую подушечку, на которой будет покоиться безжизненная голова. Он представлял, как отслужит над ним службу, в полном соответствии с торжественной и простой латинской литургией, так нравившейся им обоим, ему и дону Лекко. Он представлял, как произнесет панегирик, не заготовленный заранее, а идущий от сердца. Он даже услышал свой голос: «Дон Лекко был Божьим человеком».
С тех пор минуло лишь несколько недель. В какой-то момент у него мелькнула мысль, а не рассказать ли префекту о похищенной книге. Манускрипт уникальный, да. Но в архивах албанской Национальной библиотеки хранились три его фотокопии: Ватикан выпустил факсимильное издание, а еще одно вышло в Тиране.
Если префект полагал, что мы слишком часто чтим красоту или уникальность книги превыше ее содержания, то, согласно этой логике, выходило, что священник не украл ничего.
Нет, обокрали его самого. Он обокрал себя через собственные невинность и отстраненность от мира. Мальчик на холме, живший поэмой и стремившийся служить Богу. Старик, затерявшийся среди книг, со смутным ощущением греха, в месте, где имя Божие повсюду, но при этом страстно ищущий малейший след Его присутствия.
Семьдесят лет. Куда они ушли?
Ему опротивело это место. Он хотел вернуться на Сицилию. Хотел вернуться к жизни и уйти из нее так, как вошел: растворившись в поэме, где-нибудь в маленькой церквушке в холмах его родины, где дыхание Божие глубоко, где каждый рассвет можно встречать службой на латыни, а дни проводить в наполненном молитвами покое бальзама этого дыхания. Чего ему будет не хватать, так только запаха и прикосновения великих книг. Но возможно, это станет благословением, последним очищением. Слова поэмы его юности, текучие слова Чьело все еще лежали в святая святых памяти.
Префект назначил священника старшим куратором библиотеки. На старом медном кольце, таком большом, что в него проходил кулак, висело множество огромных старых ключей.
Хранилища библиотеки занимали семь уровней. Нижний служил конюшней до 1928 года, когда Пий XI продал лошадей и заменил их новым для Ватикана транспортным средством, автомобилями. Но за сотни лет до конюшни здесь располагалась прогулочная галерея Юлия II, которая в качестве таковой была снабжена разнообразными нишами для Демонстрации классических греческих и римских статуй. Когда начались работы по реконструкции этого помещения для растущих нужд библиотеки с ее постоянно разрастающимися хранилищами, большая часть ниш, а также выложенные травертином арочные входы были полностью или частично заложены кирпичами и укреплены с таким расчетом, чтобы возвести большую центральную поддерживающую колонну.