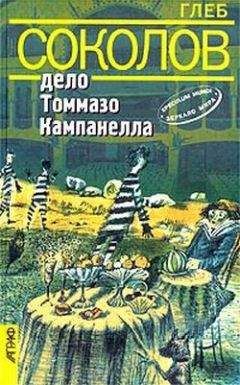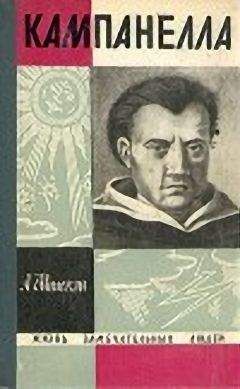– Да я и сам, можно сказать, непрерывно думаю, как я оказался в этом неприветливом месте, как мой мертвый Герой среди угрюмых мрачных скал, – проговорил он наконец.
– Да, Таборский, ведь ты, действительно, герой! У тебя со школы еще на лбу было написано, что ты рожден для подвига. И герой, действительно, мертвый, – сказал Лассаль.
– Как я оказался в этой церкви на краю угрюмого парка? Как мог наступить сегодняшний день? Ведь еще совсем недавно был яркий солнечный день, и прекрасный юноша Таборский, полный надежд и самых радужных предчувствий, радовался солнцу, свету, готовился совершить свой подвиг и подобно птицам, о которых ты только что сказал, повинуясь какому-то животному инстинкту, облетал стороною такие вот мрачные уголки. И вот я здесь: изуродован, искалечен. О, проклятый хориновский фактор времени! Это все Томмазо Кампанелла его выдумал!
– О-о! Ты и в «Хорине» уже побывал?! И про Томмазо Кампанелла все знаешь?! – в очередной раз удивился великий артист Лассаль. – Да-а, фактор времени, действительно, штука страшная. А что, ты и вправду так сильно изменился, как говоришь: изуродован, искалечен?
– Сильно ли я изменился? Ужасно! Я больше не прекрасный юноша, свободный и легкий, как птица, я больше не бессмертный житель Олимпа.
– О, ты и это помнишь? – вновь удивился Лассаль. – А я уже забыл. Ведь, верно, когда мы только поступили в театральное училище, первое время мы с тобой в шутку приветствовали друг друга «привет, новый бессмертный житель Олимпа!»
– Да, я часто об этом вспоминаю. Особенно теперь, когда я, по твоему выражению, очутился в декорациях своей школьной пьесы среди мрачных серых скал, где только седые туманы клубятся, закрывая собою ужасные расщелины, полные первородного ужаса. Я изуродован временем. Я таков, что увидь я себя нынешнего в те времена, когда я жил среди нормальных богов на Олимпе, то, наверное, пришел бы в ужас, и волосы мои встали бы дыбом, – мрачно сказал Таборский. – Меня прикончило время. Во всем виновато только время. Оно изуродовало прекрасного юношу Таборского. И вот теперь я стал похож на тот труп из школьного спектакля, что был для большего страха перемазан зеленой краской, изображавшей признаки разложения.
– Ну что ж, меня это только радует, – заметил Лассаль. – После нашей ссоры любое твое горе для меня – радость, хоть мы с тобой почти что и родственники. Да и сейчас я бы не стал так с тобой разговаривать, не случись этого… Хотя, знаешь, если честно, мне всегда хотелось с тобой поговорить. Потому я сейчас, собственно, и позвонил. Мы как-то очень враз и очень всерьез тогда перестали с тобой разговаривать. Столько всего осталось недосказанным.
– Это ты перестал со мной разговаривать.
– А что твои деньги? – словно опомнившись, поторопился сменить тему разговора Лассаль. – Помнишь, как ты оставил искусство, наш общий Олимп, и погнался за деньгами. Мы уже были с тобой в ссоре из-за нее, но ты по-прежнему приходил в театр на все спектакли, в которых она играла, и дарил ей цветы. Помнишь того подростка, что почти сорвал «Маскарад»? В тот день вы были с ним заодно… А что теперь? Мне кажется, ты больше не дружишь с деньгами.
– Да, это так. Давно уже. С того самого вечера премьеры лермонтовского «Маскарада». В тот вечер, благодаря тебе, я почувствовал всю беззащитность денег, всю их слабость. Я бросил, как ты говоришь, гнаться за деньгами. Я все ждал чего-то…
– Я слышал, что ты стал одиноким и неприкаянным человеком, слишком хорошо знакомым с алкоголем, – как-то между прочим заметил Лассаль. Но чувствовалось, что ему очень интересно знать, как-то теперь живет Таборский, от него самого. – К нам в театр приезжал один актер из Воркуты. Скажу честно, я не удержался и расспросил его о тебе. Его рассказ был весьма печальным.
– Да, я знаю того человека, про которого тебе рассказал этот актер. Когда у себя на Севере, после службы в театре, тот человек идет домой, то заходит в разные магазины купить продуктов себе на ужин. Он заговаривает с продавщицами: неважно о чем, неважно молодые они или старые, красивые или нет. Ему просто хочется наговориться перед тем, как замолчать до следующего трудового утра. Он любит и умеет готовить, но готовит только себе одному. И еще – каждый вечер за ужином на столе в его комнате стоит бутылка и один-единственный стакан. Ты должен знать, что тот одинокий и неприкаянный человек, слишком хорошо знакомый с алкоголем, который теперь носит мое имя, на самом деле не я… О, ужас! – произнес Таборский. – Ты помнишь, гибель моего Героя в той школьной пьесе была случайной. Погибнуть должен был совсем другой, не Герой. Так и со мной: изуродовать должны были не меня.
– Послушай, Таборский, ты – ребенок. Так, как сейчас рассуждаешь ты, может рассуждать только ребенок. Ты – ребенок.
– Если бы! Многое бы я отдал за то, чтобы вновь стать ребенком! Понимаешь, когда я был молодым человеком, меня обманула жизнь. Под воздействием этого обмана я стал делать то, чего ни в коем случае не стоило делать, и не стал делать того, что надо было делать. Я перепутал многие вещи. И таким образом я оказался в объятьях злой судьбы. Я оказался в объятьях злой судьбы, которая мне не принадлежит. Это чужая злая судьба.
– Ну ты же сам только что сказал, что ты делал вещи, которые ни в коем случае не стоило делать, и не делал того, что надо было делать. Значит, это твоя судьба. Ты ее заслужил.
– Заслужил, не заслужил – какая разница! Я не хочу эту судьбу.
– Здесь одного хотения будет мало… Да и к тому же, сам понимаешь, время уже прошло и поправить ничего нельзя.
– Не-ет! Заткнись! Не смей так говорить! – Таборского как подбросило. Он сжал в руке телефон с такой силой, что пластмассовый корпус едва не треснул. Лицо Таборского очень сильно переменилось: оно стало злым, упрямым, в нем хорошо читалось ожесточение и воля.
– О-о, узнаю Таборского! – протянул Лассаль. – Боец, воин!
– Извини, эта грубость сорвалась случайно, – смягчился Таборский. – Если время уже ушло, то зачем я вообще живу?! Время не ушло. Я всего полдня в столице, а мне уже легче: широкие улицы, и фонари, и рекламы, и театры. Знаешь, это теперь так здорово на меня действует. Здесь совсем не так, как на Севере. Мне кажется, я от столицы сошел с ума. Мне это мое сумасшествие помогает верить – все исправится, судьба исправится, колдовство, порча, которые на меня насланы, испарятся. Мне кажется, еще чуть-чуть, еще немного, еще каких-нибудь несколько часов и я проснусь, приду в себя и окажется, что все, что со мной было после моей прекрасной юности, – это только мрачный и угрюмый сон. И вот уже наступило утро, и сон развеялся. И светит солнце, и окно раскрыто. Я встану, подойду к нему: троллейбус едет по широкому проспекту, выбежали из арки и подбежали к киоску «Мороженое» веселые школьники. А главное: мой мрачный сон – только сон, и он прошел, развеялся! О, каким прекрасным будет это пробуждение! Все, что тяготило и мучило меня, – только сон, все безысходное, мрачное развеялось… Сегодняшний вечер необыкновенен. Сегодняшняя ночь – необыкновенна. Сон развеется, мрачное уйдет. Или… Даже не хочу об этом думать! Я приехал в Москву только на одну ночь. Завтра мне уезжать обратно на Север. Но я не поеду обратно на Север, потому что мрачный сон развеется, и не надо будет никуда ехать.
– Хориновская революция в настроениях. Сегодня в «Хорине» решительная ночь. Сразу видно, что ты уже там побывал, – отметил Лассаль. – Впрочем… Ладно, коли уж ты приехал, скажи, ты уже видел ее?
– Нет еще. Я все ищу ее, ищу. И никак не могу найти, – проговорил Таборский.
– Ты все ищешь ее и никак не можешь найти?! – Лассаль явно был очень сильно озадачен таким ответом Таборского.
– Да, все ищу и никак не могу найти, – подтвердил Таборский.
– Так посмотри там слева от входа! – велел Лассаль. – Честное слово, если ты шутишь, то это слишком тяжелая и неуместная шутка. Время совсем не для шуток.
Слева от входа, в полутьме стоял гроб. Теперь Таборский наконец заметил его.
Тут же, внешне совершенно спокойный, – конечно, внешне, только внешне, руки его не проявляли никакой наклонности к дрожанию, – медленно, словно с неохотой Таборский подошел к гробу и заглянул в лицо покойнику. Вдалеке, в дальних пределах храма появился священник, которого Таборский пока не замечал.
В гробу лежала старуха Юнникова.
Глаза Таборского мгновенно наполнились слезами.
– Нет, этого не может быть. А кто же тогда вел репортаж из блестящего ресторана? Нет, этого не может быть. Она жива. Она просто спит. Умаялась, пока моталась по Москве, пока вела репортаж из блестящего ресторана.
– Какой репортаж? Ты что, сошел с ума? – не верил своим ушам Лассаль.
– Как это какой репортаж? Юнникова совсем недавно вела репортаж из блестящего ресторана в центре Москвы. Юнникова – жива.
Из дальних пределов храма выглянул священник: