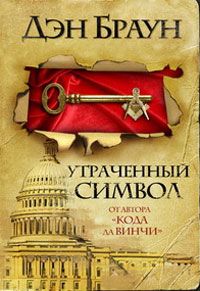Веки у Лэнгдона отяжелели.
– А знаешь, я до сих пор не научился посылать твиттинги.
– Твиты, – смеясь, поправила Кэтрин.
– Что?
– Не важно. Закрой глаза. Я тебя разбужу, когда будет пора.
За разговорами Лэнгдон совсем забыл и про ключ, выданный Архитектором Капитолия, и про то, зачем они вообще поднимались на эту верхотуру. Убаюканный новой волной дремоты, он смежил веки и погрузился в сонную темноту, где ворочались мысли об «универсальном сознании», о «мировом разуме» и «коллективной единичности Бога» у Платона, о «коллективном бессознательном» Юнга… И вдруг профессора озарила простая и вместе с тем поразительная догадка.
«Божественное сокрыто во Множестве, а не в Едином».
– Элохим, – вырвалось у Лэнгдона, и он распахнул глаза, удивившись своему неожиданному открытию.
– Что? – Кэтрин все еще смотрела на него, приподнявшись на локте.
– Элохим, – повторил Лэнгдон. – Так называют Бога в Ветхом Завете. Это слово меня всегда занимало.
Кэтрин понимающе улыбнулась:
– Да, это ведь множественное число.
«Именно!»
Лэнгдон никогда не понимал, почему в первых главах Библии Господь представлен во множественном числе. Элохим. В Книге Бытия всемогущий Господь не был Един… он был Множеством.
– Бог многочислен, – прошептала Кэтрин, – потому что многочисленны людские умы.
В голове у Лэнгдона пестрым хороводом крутились мысли – сны, воспоминания, надежды, страхи, откровения – и уплывали под купол Ротонды. Когда веки снова начали слипаться, профессор вдруг увидел перед собой латинскую фразу, выписанную на фреске «Апофеоза».
«E pluribus unum».
«Из множества – один!» – успел прочитать Лэнгдон перед тем, как провалиться в сон.
Роберт Лэнгдон постепенно очнулся от сна.
Сверху смотрели многочисленные лица. «Где я?»
Мгновение спустя он наконец вспомнил. И, медленно потянувшись, сел на балконе под фреской «Апофеоза». Спина затекла от лежания на твердом.
«А где Кэтрин?»
Лэнгдон взглянул на часы с Микки-Маусом.
«Почти пора».
Поднявшись на ноги, он осторожно посмотрел через ограждение вниз, в зияющую бездну.
– Кэтрин! – крикнул профессор.
Пустынная Ротонда откликнулась гулким эхом.
Тогда Лэнгдон поднял с балконного пола свой твидовый пиджак и, отряхнув, надел. Пошарил в карманах. Железный ключ, выданный Архитектором, куда-то подевался.
Осторожно пройдя по балкону обратно, профессор добрался до ниши, которую им показал Беллами… Крутая металлическая лестница, ведущая в тесную темноту. Он начал подниматься по ступенькам. Выше и выше. Лестница постепенно сужалась и делалась все круче. Но Лэнгдон не сдавался.
«Еще чуть-чуть».
Ступеньки стали совсем узкими, как у стремянки, а стены подступили почти вплотную. Наконец лестница кончилась, и Лэнгдон вышел на крошечную площадку, которая упиралась в массивную металлическую дверь. В замке торчал железный ключ, а сама дверь оказалась приоткрытой. Профессор толкнул ее, и дверь со скрипом отворилась. Оттуда повеяло холодом, и, шагнув через порог в сизую тьму, Лэнгдон понял, что выбрался наружу.
– Я как раз собиралась за тобой идти, – улыбнулась Кэтрин. – Уже почти пора.
Оглядевшись, Лэнгдон осознал, где находится, и у него перехватило дыхание. Узкий балкон, опоясавший надстройку-фонарик на куполе Капитолия. Над ним возвышалась бронзовая cтатуя Свободы, взирающая сверху на спящую столицу. Взгляд ее устремлялся на восток, где горизонт уже окрасили первые алые проблески зари.
Кэтрин повела профессора вдоль круговой балюстрады на противоположную сторону, и там они обратились лицом к западу, по линии Эспланады. Вдали, на фоне серого утреннего неба, вырисовывался четкий силуэт Монумента Вашингтона. Отсюда он выглядел еще более величественным.
– В свое время, когда его только построили, – прошептала Кэтрин, – он был самым высоким сооружением на планете.
Лэнгдону представились старые черно-белые снимки, запечатлевшие, как масоны, поднявшись по строительным лесам на пять сотен футов над землей, вручную, по кирпичику выкладывают грани обелиска.
«Мы строители, – подумал Лэнгдон. – Мы творцы».
Испокон веков человек ощущал в себе что-то особенное, что-то неведомое. Он жаждал сил, которых не имел. Мечтал научиться летать, исцелять, преображать окружающий мир всеми возможными способами.
И преуспел.
Храмы, куда приходят поклониться его достижениям, выстроились вдоль Эспланады. Музеи Смитсоновского комплекса едва вмещают все богатство изобретений, шедевров искусства и науки, трудов великих мыслителей. В них отражена вся история человека созидающего: от каменных орудий в Национальном музее американских индейцев до истребителей и ракет в Национальном музее авиации и космонавтики.
«Наши далекие предки наверняка сочли бы нас богами».
Раскинувшаяся далеко внизу мозаика памятников и музейных зданий снова увела взгляд Лэнгдона сквозь предрассветную мглу к Монументу Вашингтона. Профессор представил глубоко в земле одинокую Библию в краеугольном камне и подумал о том, как Слово Божие обернулось словом человеческим.
Затем пришла мысль о великом циркумпункте, вмурованном в круглую площадку под памятником в самом средоточии Америки. А потом Лэнгдон вдруг вспомнил о каменной шкатулке, которую ему когда-то вручил Питер. Ведь этот куб – Роберт только теперь понял, – раскрывшись, образовал ту же самую геометрическую фигуру, крест с циркумпунктом в центре. Лэнгдон невольно рассмеялся.
«Даже шкатулка и та указывала на это средоточие».
– Смотри, Роберт! – Кэтрин показала на верхушку памятника.
Лэнгдон поднял глаза, но ничего не заметил.
А потом, присмотревшись, разглядел.
На макушке величественного обелиска вспыхнула крошечная золотистая искра. Она разгоралась все ярче, все лучистее, сверкая на алюминиевом навершии каменной «иглы». Под восхищенным взглядом Лэнгдона она вскоре заполыхала огнем, как фонарь маяка, парящий над погруженной в сумрак столицей. Профессор вспомнил изящную надпись на восточной грани алюминиевого колпачка и осознал: каждый новый день в столице начинается с того, что первый луч восходящего солнца зажигает золотом два слова: «Laus Deo»
– Роберт, – шепнула Кэтрин, – мало кому выпадает возможность оказаться здесь на рассвете. Вот что хотел показать нам Питер.
Лэнгдон с бьющимся сердцем смотрел, как разгорается сияющий венец на верхушке обелиска.
– Ему кажется, именно поэтому отцы-основатели выстроили стелу такой высокой. Не знаю, так это или нет, но одно известно точно: есть старинный закон, по которому обелиск должен оставаться самым высоким сооружением в столице. Всегда.
За их спинами над горизонтом поднималось солнце, и отблески на алюминиевом колпачке теперь играли ниже. Лэнгдон смотрел и всем существом ощущал, как летят небесные тела по своим вечным орбитам сквозь бескрайние космические просторы. Он вспомнил о Великом архитекторе Вселенной и о том, как Питер особо подчеркнул, что сокровище, которое им с Кэтрин предстоит увидеть, может открыть лишь Архитектор. Тогда он решил, что речь идет об Уоррене Беллами. Ошибся.
Солнечные лучи постепенно набирали силу, и в их сиянии теперь купался весь каменный наконечник обелиска весом в тридцать три сотни фунтов.
«Озаренный человеческий разум».
А потом свет зари плавно заскользил вниз по стенам монумента, тем же путем, которым спускался каждое утро.
«Небеса сближаются с землей… Господь тянется к человеку».
Вечером этот ритуал повторится в обратном порядке. Солнце уйдет за горизонт на западе, и его лучи вновь вознесутся с земли на небо, готовясь к новому дню.
Кэтрин, поеживаясь от холода, придвинулась поближе. Лэнгдон обнял ее за талию. Так они и стояли, не произнося ни слова, и профессор перебирал мысленно то удивительное, что ему довелось сегодня узнать. Уверения Кэтрин, что грядут великие перемены. Доводы Питера, что золотой век не за горами. И слова великого пророка, который заявил прямо: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу».
Над Вашингтоном вставало солнце. Лэнгдон поднял глаза к небесам, где таяли последние звезды. Он думал о науке, о вере, о человеке. О том, что объединяло все страны и народы всех времен. У нас у всех был Творец. Он существовал и существует под разными именами, в разных обличьях, ему возносили разные молитвы, однако человечество не мыслит себя без Бога. Бог – это общий для нас всех символ, символ всего неизведанного и неподвластных нам тайн. Древние почитали Бога как символ безграничного потенциала человеческих способностей, однако шли века, и человечество этот символ утратило. А теперь обрело снова.