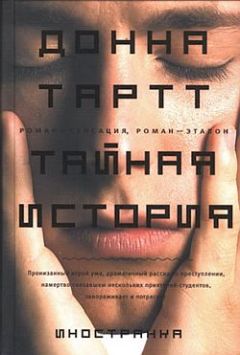Яркий свет ламп резал глаза. Мне было жутко неловко.
Подойдя к раковине, врач принялся мыть руки.
— Небось наркотиками вечерком баловались? — как бы между делом спросил он.
— Нет, — ответил я, краснея.
— Может, что-то все-таки было? Скажем, чуток кокаина? Или, может, немного фена, а?
— Нет.
— Если ваш друг что-то употреблял, нам нужно знать, что именно, чтобы ему помочь.
— Фрэнсис… — робко начал я и затих под ненавидящим взглядом: «И ты, Брут».
— Издеваешься?! — вскрикнул он. — Знаешь же прекрасно, ничего я не употреблял.
— Успокойтесь, — сказал врач. — Никто вас ни в чем не обвиняет. Но, согласитесь, вы ведете себя довольно странно, нет?
— Нет, — не сдавался Фрэнсис.
— Неужели? — усмехнулся врач, тщательно вытирая руки. — Вы приезжаете посреди ночи, заявляете, что у вас сердечный приступ, а потом не даете нам провести осмотр. Как прикажете ставить вам диагноз?
Фрэнсис, тяжело дыша, уперся взглядом в пол. Лицо у него пылало.
— Я не телепат, — помолчав, сказал врач. — Но опыт подсказывает мне, что когда кто-то в вашем возрасте жалуется на сердце, то здесь одно из двух.
— И что же? — спросил я, поняв, что Фрэнсис не собирается принимать участия в разговоре.
— Ну, вариант номер один — отравление амфетаминами.
— Ничего подобного, — вскинулся Фрэнсис.
— Хорошо-хорошо. Второй вариант — панический синдром.
— Что это такое? — спросил я, старательно избегая смотреть на Фрэнсиса.
— Внезапные приступы тревоги. Учащенное сердцебиение, дрожь, потливость. Может принимать тяжелые формы. Людям часто кажется, что они при смерти.
Фрэнсис молчал.
— Так что? Похоже на ваш случай?
— Не знаю, — нахохлившись, выдавил Фрэнсис.
Врач прислонился к раковине:
— Скажите, вы часто испытываете страх? Я имею в виду, без явной на то причины?
Из больницы мы вышли в четверть четвертого. Фрэнсис закурил прямо на крыльце, комкая в левой руке листок с именем и адресом хэмпденского психиатра.
— Злишься? — уже во второй раз спросил он, когда мы сели в машину.
— Нет.
— Злишься, я знаю.
Опустив верх, мы тронулись с места. Перед нами лежал город из сновидений: пустынные улицы, залитые тусклым желтым светом, темные шеренги домов. Мы свернули на крытый мост, и шины сухо прошуршали по деревянному настилу.
— Не сердись, пожалуйста, — сказал Фрэнсис.
— Так ты пойдешь к психиатру? — спросил я, проигнорировав его жалобную просьбу.
— Какой смысл? Будто я не знаю, что меня беспокоит.
Я промолчал. Когда врач произнес слово «психиатр», я насторожился. Я не слишком верю в психиатрию, но кто знает, что опытный специалист может усмотреть в личностном тесте, в пересказе сна, даже в оговорке?
— В детстве меня как-то прогнали через психоанализ, — сказал Фрэнсис. Мне показалось, он вот-вот расплачется. — Мне было лет одиннадцать-двенадцать. Матушка тогда ударилась в йогу, вытащила меня из бостонской школы и отправила в Швейцарию, в институт чего-то там, не помню чего. Кошмарное заведение. Все носили сандалии с носками. В учебном плане значились танцы дервишей и каббала. Белый уровень — так они называли мой класс, или группу, не помню, — каждое утро занимался гимнастикой цигун. На психоанализ отводилось четыре часа в неделю, а мне вообще прописали шесть.
— Как можно анализировать двенадцатилетнего ребенка?
— Путем словесных ассоциаций. Еще выдавали кукол с очень натуральной анатомией и заставляли играть в какие-то сомнительные игры. Меня и двух французских девчонок как-то застукали, когда мы попытались улизнуть с территории. На самом деле мы просто хотели добежать до bureau de tabac[128] и купить шоколада — нас там морили голодом, держали на одной макробиотической пище, можешь представить, — но начальство, конечно, решило, что наша вылазка как-то связана с сексом. Их это ничуть не шокировало, они только хотели, чтобы им докладывали о таких вещах во всех подробностях, а я, дурак, не мог понять, чего от меня добиваются. Девчонки были поискушенней и сочинили безумную историю во французском духе — ménage à trois[129] в стоге сена, вроде того. Психиатр был на седьмом небе. Меня он записал в клинические случаи — решил, что я, как у них говорят, вытеснил этот эпизод в подсознание, раз ничего не рассказываю. А я был готов наплести что угодно, лишь бы меня отослали домой.
Он уныло рассмеялся:
— Помню, директор института спросил, с каким литературным героем я себя отождествляю, а я ответил — с Дэви Балфуром из «Похищенного».
На очередном повороте перед нами внезапно мелькнула тень и в лучах фар возникло какое-то крупное животное. Вжав в пол педаль тормоза, я увидел перед собой зеленые стеклянные глаза. Еще мгновение, и они исчезли.
Мы не трогались с места, все еще глядя на освещенную полосу дороги.
— Что это было? — наконец спросил Фрэнсис.
— Не знаю. Олень, наверно.
— Нет, точно не олень.
— Тогда собака.
— Мне показалось, это был какой-то зверь вроде кошки.
Мне, на самом деле, показалось то же самое.
— Слишком большой для кошки, — тем не менее возразил я.
— Может, кугуар?
— Кугуары здесь не водятся.
— Раньше водились. Их называли «катамаунты». Отсюда, кстати, название Катамаунт-стрит.
Холодный ночной ветерок забирался под одежду. Где-то вдалеке залаяла собака. Машин в этот час на шоссе почти не было.
Я отжал сцепление и дал газ.
Фрэнсис просил никому не говорить о нашем визите в больницу, но в субботу вечером, в гостях у близнецов, я выпил лишнего и, когда мы с Чарльзом оказались на кухне вдвоем, как-то само собой вышло, что я ему все рассказал.
Чарльз слушал, сочувственно кивая. Он и сам выпил немало, но все же меньше, чем я. За последнее время он тоже похудел, и старый костюм в полоску висел на нем как на пугале. На шее у него был небрежно повязан потертый шелковый галстук.
— Бедный Франсуа, — сказал он с улыбкой. — Совсем крыша прохудилась. Так он пойдет к этому мозгоправу?
— Не знаю.
Чарльз вытряс сигарету из валявшейся на серванте пачки «Лаки страйк».
— На твоем месте, — сказал он, осторожно выглядывая в коридор, — я бы посоветовал ему не заикаться об этом при Генри.
Я удивленно взглянул на него, ожидая продолжения. Прикурив, Чарльз выпустил облачко дыма.
— Я что имею в виду, — тихо произнес он, — да, я, случается, злоупотребляю спиртным. Сам первый это признаю. Но ведь это мне, а не ему пришлось иметь дело с полицией. И с Марион — тоже мне. Господи, она до сих пор звонит мне каждый вечер. Пусть побеседует с ней часок, посмотрим, как он запоет… Да хоть бы я пил по бутылке виски в день, какое он имеет право вмешиваться? Я ему так и сказал. И еще добавил, что в твою жизнь ему тоже нечего лезть.
— Погоди, при чем тут я?
Он окинул меня по-детски недоуменным взглядом, а потом вдруг разразился смехом.
— А, так ты еще не в курсе? Ты теперь тоже кандидат в «Анонимные алкоголики». Распустился, бродишь пьяным средь бела дня — одним словом, катишься под откос.
Я остолбенел. Видя мою реакцию, Чарльз снова рассмеялся, но тут послышались шаги, звяканье льда в стакане, и на кухню заглянул Фрэнсис. Слово за слово, он втянул нас в беспечную болтовню, и через некоторое время мы сообща переместились в гостиную.
Это был уютный, счастливый вечер: приглушенный свет, звон стаканов, шелест дождя по крыше. Верхушки деревьев, шипя, как сифонная струя, рассекали воздух, в открытые окна врывался влажный ветер — сладковатый, дурманящий, вольный.
Генри пребывал в отличнейшем настроении и производил полное впечатление человека, только что вернувшегося с курорта. Развалясь в кресле и вытянув ноги, он не скупился на остроты и отвечал искренним смехом на шутки остальных. Камилла выглядела волшебно. Облегающее светло-апельсиновое платье без рукавов подчеркивало собранность ее фигуры, неосознанную, почти мужскую грацию осанки. Я любил ее, любил прерывистые взмахи ее густых ресниц, сопровождавшие речь, ее манеру (отголосок манеры Чарльза) зажимать сигарету между костяшками пальцев.
Камилла и Чарльз, похоже, помирились. Они мало разговаривали, но между ними вновь протянулась привычная ниточка близняшества: то Чарльз присаживался на подлокотник кресла Камиллы, то Камилла, следуя давнему ритуалу, отпивала глоток из его стакана, и прочее в том же духе. Я никогда не мог проникнуть в символическую суть этих действий, но, как правило, они свидетельствовали о том, что все хорошо. Мне показалось, Камилла прилагает к примирению больше усилий, словно бы пытаясь загладить какую-то вину, и теперь я был склонен отвергнуть гипотезу, что разлад лежал на совести Чарльза.