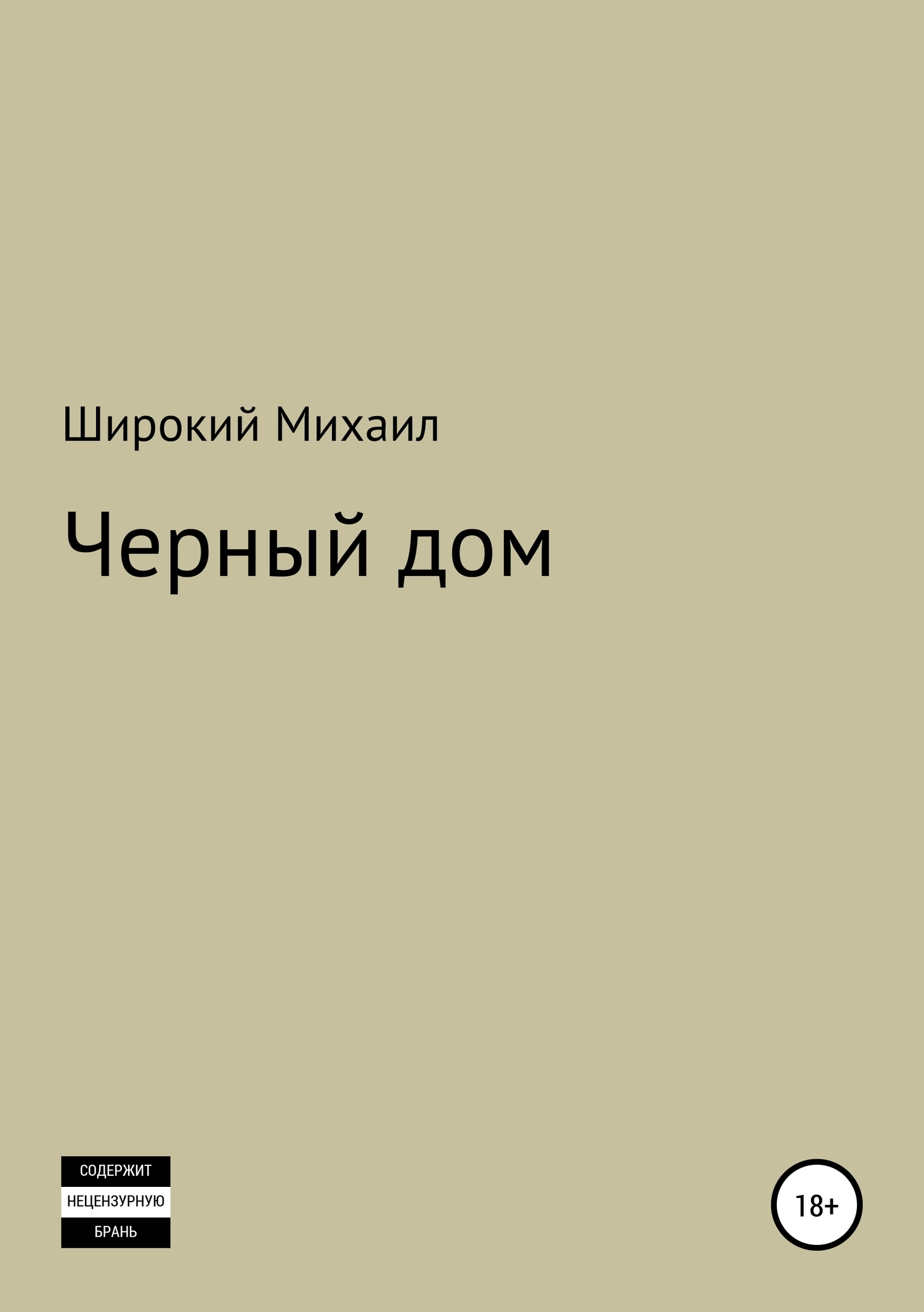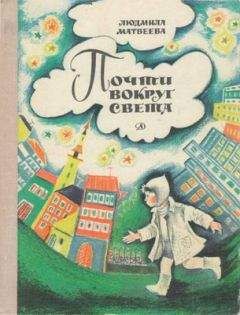знать не знаю и знать не хочу: он, поганец, бросил нас с мамашей, когда я ещё пешком под стол ходила. Так что я его почти не помню… Но моя мамаша, до того как сошла с ума, тоже не промах была: слишком долго без мужика она не могла, – в этом я вся в неё. И вскоре она нашла его – моего любимого папулю, который в тот момент находился в сложной ситуации. Только что освободился – ни денег, ни работы, ни жилья. Ну, мамашка и приютила его, обогрела, обласкала…
Алина вдруг смолкла, точно прислушиваясь к чему-то или, может быть, отдавшись на минуту всколыхнувшимся в ней воспоминаниям о собственном прошлом. Но эта внезапная задумчивость длилась лишь несколько мгновений. Она тряхнула волосами, словно отрешаясь от несвоевременных, возможно, неприятных ей мыслей, и, сложив губы в вызывающе-похабную улыбочку, заговорила вновь:
– Но вскоре выяснилось, что папуля предпочитает молоденьких… ну очень молоденьких девочек! И красивых, конечно. А я как раз такая тогда и была… Ну, красивая я, разумеется, и сейчас. Даже, думаю, ещё красивее, чем тогда. А вот молодость, увы, проходит. Какая жалость! Девятнадцать намедни стукнуло. Уже девятнадцать – это ж ужас просто! Как время летит. Скоро совсем старушкой стану. Поморщусь, сгорблюсь, увяну… фу, гадость какая, даже представить противно… И кто, спрашивается, на меня тогда посмотрит? Кто клюнет на мою удочку? Кого я смогу тогда заманить сюда, вот как тебя сегодня?.. Да-а, для женщины молодость и красота – это самое главное. Это самое убойное её оружие, которое косит мужиков, как траву. Это её основной капитал, который нужно вложить как можно выгоднее, чтобы удвоить, утроить, удесятерить его! И этот капитал у меня, слава богу, имеется. В достатке! Природой я не обижена. Так ведь? – пристально воззрившись на Гошу, спросила она с нескрываемым выражением презрения к нему и уверенности в собственном превосходстве.
Гоша вскинул глаза и несколько секунд исподлобья смотрел на неё. Даже в нынешнем своём положении, после всего того, что произошло и продолжало происходить с ним по её вине, – а о том, что ещё должно было произойти в самом ближайшем будущем, он и подумать боялся, – несмотря на всё это, он по-прежнему не мог не признать, что она необыкновенно хороша. Эти тонкие, изящные черты прекрасного лица, гладкая нежная кожа оливкового оттенка, безупречная точёная фигура, стройная и гибкая, как у лани, плавные, закруглённые движения, мягкий, завораживающий голос не совсем обычного тембра, который приятно было слушать даже тогда, когда она говорила ужасные и отвратительные вещи, а главное – огромные, чуть не в пол лица, лучезарные глаза, упорный, пронизывающий, с лукавой хитрецой взгляд которых проникал, казалось, в самую душу, – всё это, вместе взятое, производило на него непередаваемое, потрясающее впечатление. Да, она действительно была неописуемо, чертовски красива, с этим трудно было поспорить. И не было ничего удивительного в том, что он, едва увидев её там, в сквере, был мгновенно очарован, можно сказать околдован, её прелестью и грацией и готов был идти за ней, как на поводке, куда угодно, хоть в пекло. Именно туда, по иронии судьбы, он и попал!
Но теперь, после всего происшедшего, после всего того, что он узнал о ней с её же собственных слов и о чём он смутно, но небезосновательно догадывался, он смотрел на неё совсем другими глазами. Застилавшая их розовая пелена спала, очарование рассеялось, чувственное возбуждение улеглось. Теперь он знал – или, во всяком случае, был очень близок к этому, – кто на самом деле эта яркая, сияющая, как звезда, красавица, точно сирена, завлекающая неосторожных и легковерных путников, чтобы погубить их.
– Короче, папуля положил на меня глаз, и мы стали любовниками, – чуть закатив глаза кверху, предавалась воспоминаниям, по-видимому, очень гревшим ей душу, Алина. – И это было круто! До сих пор мурашки по коже, как вспомню нашу первую ночь… хотя, может быть, это был день, неважно… Мне было шестнадцать, и хотя целкой я, разумеется, уже не была, всё равно поначалу было немного страшновато. Да и папуля, скажем откровенно, был не особенно нежен – накинулся на меня, как изголодавшийся зверь… Но меня необычайно возбуждала сама мысль, что я трахаюсь с отчимом, с мужем собственной матери, с тем, кого я называла отцом. Это незабываемое ощущение! Это стоит попробовать. Запретный плод, как известно, сладок, – в этом я убедилась на опыте…
В этот миг её сверкавший, беспорядочно бегавший по сторонам взгляд случайно задержался на красовавшихся над столом весёлых картинках, изображавших необузданные плотские утехи двух страстных любовников. Несколько секунд она внимательно рассматривала их, будто видела впервые, а потом кивнула на них Гоше и прищёлкнула языком.
– Да, талантливый человек талантлив во всём! Мой дорогой папуля не только великолепный, непревзойдённый любовник, но и незаурядный живописец. Прям Сальвадор Дали… доморощенный. Вон, вишь, что он тут нацарапал как-то на досуге… благо досуга у него предостаточно… Да ты видел уже, наверно. Себя самого и меня – в очень интересный момент! Конечно, он здесь кое-что приукрасил… преувеличил… Но, в конце концов, настоящий художник – не копиист. Он совершенно не обязан рабски следовать натуре. Он имеет право на своё особое видение, на воображение, полёт фантазии…
Высказав несколько этих соображений искусствоведческого характера, явно где-то услышанных или прочитанных ею и довольно странно звучавших в её устах, Алина, вероятно, поняла, что углубилась не в свою сферу, и, состроив забавную гримаску, вернулась к куда более близкой ей теме и перешла на более привычный и свойственный ей лексикон:
– И потом, гораздо приятнее, по-моему, трахаться с взрослым, опытным, умелым мужиком, чем с таким молокососом, как ты! – И она опять бросила на Гошу уничижительный, почти брезгливый взгляд, примерно такой же, каким он сам не так давно смотрел на старого бомжа, дремавшего на автобусной остановке.
Этот её взгляд, перехваченный Гошей, многое объяснил ему. До него окончательно дошло осознание того, кем на самом деле он являлся в глазах этой самовлюблённой, высокомерной, время от времени обливавшей его своим безграничным презрением девицы. Он был для неё тем же, кем был для него тот самый обтёрханный вонючий бродяга с остановки, то есть вообще не человеком, тем, на кого всегда смотрят сверху вниз, в лучшем случае с пренебрежением и унизительной жалостью, как на дряхлого, беспомощного старика или нищего, в худшем – с омерзением и гадливостью, как на крысу или паука. В данном случае ближе к истине был, очевидно, второй вариант: ни о каком снисхождении и жалости к