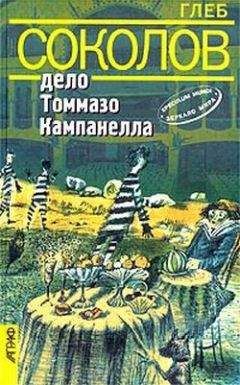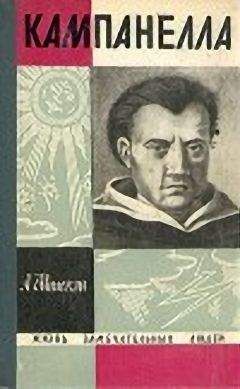Но двое, что вылезли из такси, больше не обращали на него внимания, а стали о чем-то вполголоса разговаривать между собой. Эту очень короткую часть разговора дедок расслышал плохо, уловил только, что «сейчас сюда приедет милиция», и один раз было произнесено название «Хорин». Парень, уловив это слово, принялся пьяно уверять воров, что может показать им самую короткую дорогу до того дома, в котором располагался подвальчик самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, но те не стали его слушать, а поспешили к такси, – милиции пока нигде не было видно. Перед тем как уйти, тот из двух воров, что был очень волосат, напоследок толкнул пьяного парня в грудь, да так, что тот отлетел к мусорным бачкам, сильно ударившись о них головой, а потом свалился на асфальт.
Не обращая на него больше внимания, воры вернулись к перекрестку, где залезли в канареечного цвета такси «Волга», которое тут же уехало. Пока парень медленно поднимался с асфальта, дедок выбрался из своего укрытия и поспешил в хориновский подвальчик, чтобы предупредить товарищей по самодеятельному театру о приближавшихся визитерах. В том, что он опередил их всего лишь на какие-нибудь несколько минут, дедок был уверен, так как хоть и добирался он до «Хорина» едва ли не бегом и по самому короткому пути, а все-таки и не мог он сильно обогнать двух воров, которые, наверняка, кружили сейчас в канареечного цвета такси где-то совсем рядом, разыскивая улочку, по которой можно было бы на автомобиле подъехать к дому, в подвале которого располагался «Хорин».
Едва дедок успел дорассказать все это, как в хориновском зале появился пьяно пошатывавшийся Охапка. Лицо его было перемазано уже подсохшей кровью.
– Где мои новые друзья? Они уже здесь? – спросил он с порога. – Сюда должны были прийти два моих друга. Имейте в виду, я – Господин Истерика. Так что советую вам быть со мной поосторожней и лишний раз меня не задевать. А то я здесь такое устрою, что не обрадуетесь!.. И еще хорошо будет, если я двух-трех здесь жизни не лишу… Так что лучше меня не трогайте.
Ошалевшие хориновцы и без этого предупреждения молчали. Некоторое время подождав ответа, Охапка, осмотревшись и не обнаружив нигде Жору-Людоеда и его спутника, устало повалился на один из стульев, с которого едва успел предусмотрительно подняться хориновский актер.
Развалившись на стуле, Охапка прикрыл глаза, но спит он или нет, понять было невозможно.
В этот момент на выходе из лабиринта, что вел к двери на улицу, возникли уже хорошо знакомые нам, но совершенно пока не известные хориновцам Жора-Людоед и Жак. Впрочем, имя Жора-Людоед было знакомо некоторым из них из читанной еще во время репетиции в школьном классе статьи из обрывка завалявшегося номера «Криминальных новостей». Появлением знаменитого вора хориновцы были обязаны тому обстоятельству, что Жора-Людоед случайно услышал какую-то небольшую часть разговора Томмазо Кампа-нелла про тюремный паспорт из рации того самодеятельного артиста, что изображал из себя в шашлычной старуху Юнни-кову.
Войдя в хориновский зальчик, Жора-Людоед продолжал какой-то разговор, который они с Жаком начали, видимо, еще на улице:
– Мы теперь в театре, хоть и в самодеятельном. А я театральную жизнь люблю. Вот бы мне навсегда в этой театральной жизни-то остаться! Найти бы тюремный паспорт и потом потерять его где-нибудь в театре, чтобы навсегда в театре-то и остаться, – проговорил Жора-Людоед.
– Что же ты здесь, в Лефортово, вот в этом вот странном маленьком театрике в подвале хочешь остаться? – сказал с некоторым разочарованием Жак, разглядывая тем временем убогую обстановку хориновского зальчика.
– Нет, конечно. Сейчас я думаю, что планом моим могло бы быть: найти тюремный паспорт и отправиться с ним сегодня на премьеру «Маскарада» и остаться там навсегда, – откровенно сказал Жора-Людоед. – Впрочем, театр есть театр, и здесь, хоть театрик здесь и достаточно маленький и какой-то весь недостроенный, мне все же нравится больше, чем не в театре. И честно тебе скажу, Жак, больше мне здесь нравится, чем в тюрьме…
Жак был настолько поражен, что даже отступил немного в сторону и широко раскрытыми глазами уставился на Жору-Людоеда.
Тем временем Охапка открыл наконец глаза и с пьяной улыбкой уставился на двух воров.
– Да, Жакушка, – удрученно проговорил, не замечая Охапку, Жора-Людоед. – Чувствую я, что с каждым часом мне все хуже и хуже. Все сильнее и сильнее моя тоска. До того плохо мне стало, что теперь с каждой минутой мысль о тюрьме мне все противнее и противнее становится.
– Да-а… – протянул Жак. – А ведь кто-то сейчас тюремный паспорт в руках держит и совсем не думает так, как ты. А ты, получается, скис. Вот так-так! Жора-Людоед – и скис! Расскажешь кому – и не поверят!
– Нет-нет, неправда! Все ты не так понял! – раздраженно проговорил Жора-Людоед. – Я не скис вовсе. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Я иду все дальше и дальше в осуществлении своих планов. Мне нужно такую жизнь для себя найти, какая мне больше всего нравится. А больше всего мне нравится жизнь театральных кулис. Там я и хочу остаться навсегда. Тюрьма мне эта больше не нужна. Раньше я легко тюрьму преодолевал, раньше она мне, как дом родной была, а теперь нет. Теперь одна мысль о тюрьме меня угнетает. Не хочу я больше на тюрьму ни дня из своей жизни тратить.
– Друзья! – воскликнул в этот момент Охапка, который был не в силах больше молчать. – Как я рад, что вижу вас здесь! Я полон настроения любви к вам, моим новым друзьям!..
Жора-Людоед и Жак посмотрели на Охапку довольно кисло. Новая встреча с парнем никак не входила в их планы. Видя, что «его новые друзья» отнюдь не обрадованы, Охапка проговорил:
– Вы что, не верите в мою любовь? Я вам докажу, что она есть!.. Сейчас же докажу!.. Как мне продемонстрировать вам свою любовь?! Я готов за любовь к вам вступить в бой с кем угодно! Хотите, я разгромлю весь этот «Хорин», раздолбаю, разнесу его весь к чертовой матери?.. Повыгоняю отсюда всех этих идиотов-артистов!
– Да-а, этот идиот нас уже опередил! – с раздражением проговорил Жора-Людоед. – А ведь там, у перекрестка, и двух шагов пройти не мог без того, чтобы не пошатнуться! Как же он успел здесь так быстро оказаться?
Охапка, действительно, в этот момент в очередной раз пьяно пошатнулся, лицо его сделалось серьезным:
– Все, что я делаю, я делаю не для себя, а для всех людей, – сказал он, точно бы оправдываясь. – Ну ладно, если не хотите, чтобы я любил вас, своих новых друзей, я буду любить кого-нибудь другого.
Охапка принялся смотреть на артистов самого необычного в мире самодеятельного театра, выбирая, кого бы из них «полюбить».
– Отец, вот я тебя не знаю, – обратился он вдруг к и без того напуганному дедку, – но я за тебя готов душу из любого вынуть.
Следом взгляд Охапки переместился на учителя Воркуту:
– Дядька, дядька, и тебя я тоже защищать буду. Пусть какая-нибудь гнида только взглядом, только взглядом, слышишь, только взгляд… Только посмотрит на тебя как-нибудь, как-нибудь не так… Разорву! Тут же разорву! Голыми руками горло… Горло гаду. Пусть только не так посмотрит… Да я за тебя весь этот театр разгромлю к чертовой матери, чтобы камня на камне от него не осталось! Всех здесь поразгоню за тебя! Дядька, дядька, иди сюда, дурак, дай я тебя обниму… – но странно, глаза Охапки вовсе не стали добродушными, а наоборот, точно бы помертвели, застыли. Тут Охапка дернулся всем телом в сторону учителя Воркуты, потянул к нему руки – непонятно, то ли для того, чтобы обнять, то ли, чтобы схватить за волосы.
Учитель Воркута отшатнулся, впрочем, самообладания не потерял:
– Уберите от меня свои руки! – сказал он твердо. Жора-Людоед хрипло рассмеялся:
– А он мне нравится, этот парень! – проговорил Жора-Людоед. – Наш человек, бедовый! И кончит обязательно плохо. Сегодня же вечером какой-нибудь страшный конец ему придет. Или поезд его, пьяного, на части разрежет. Или убьют его где-нибудь в пьяной драке, поскольку он же слабак и придурок и нож как следует в руке держать не может. Истерик он дешевый. И обязательно сегодня же вечером ему конец настанет. Обязательно какой-нибудь ужасный конец. Прибьют его на улице, как перешибают в конце концов ломом хребет брехливой бездомной собаке, которая бегает и на всех брешет…
Охапка отпрянул назад, – странное изумление пополам с болью отразилось в его лице. Потом оно помрачнело, как-то сдвинулись брови, Охапкины руки заскользили по стоящему как раз рядом с ним стенду музея молодежи прежних лет. В конце рука его зацепилась за какой-то выступ на музейном стенде, словно бы он нашел долгожданную опору.
– Ладно, валяй, давай – добивай… Добивай, ладно, – проговорил он с искаженными губами. В это мгновение лицо его точно бы разом состарилось. Как будто исполнилось ему уже, по крайней мере, сорок лет.
Но молчание его было совсем кратким – прежняя стихия, прежнее исступление проявилось с новой силой: