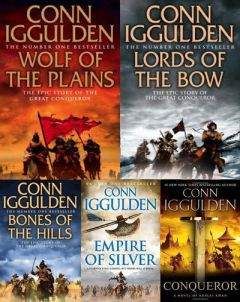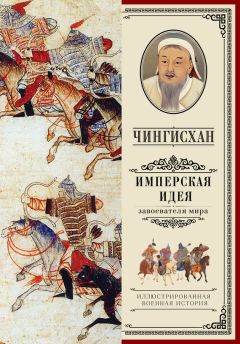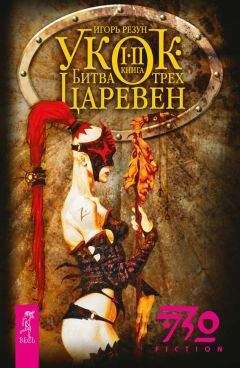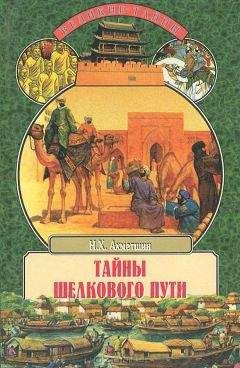— Лев Николаевич, каналья, весь вискарь у меня-таки выпил… Не найдется ли у вас чего, Варвара Никитишна?
Старушка что-то ворчит, но скорее по привычке, нежели со зла. Сделав неуловимое движение, достает откуда-то из-под себя вместительную фляжку — передает ее Майбаху. Тот с наслаждением делает хороший глоток настоящего шотландского виски.
— М-да… — тянет он блаженно. — Слаб человек! Вот и фотографию он тогда со стола моего стянул, потому как одна милая особа попросила его это сделать… И «жучки» он заложил по ее просьбе, не иначе как за ящичек коньяка. Смотрите, как все странно, Варенька… Ни особы этой уже в живых нет, ни аппаратиков, а Лев Николаич наш все живехонек, все скрипит. Элизу жалко. Да.
— Пустое, — успокаивающе бросает старушка из-за конторки. — Уволите, чай?
— А-а… пусть скрипит, — Майбах делает еще один глоток и щурится. — Не вернешь уже ничего, Варенька, не вернуться туда — не вернуться, как поет Александр Моисеич Городницкий…
Шлепая громко по плиткам, он подходит к дверям. Стекла в квадратах запотели; Издатель прижимает лоб к одному из стеклянных квадратиков.
— Помните, Варенька, — глухо говорит он. — Романец-то мне заказали? Американцы… Обо всех делах наших веселых, да о СИМОРОНе?
— Помню, помню. Как же! И что, пишется-то?
— Кого там… Стер я его. Страниц сто написал да стер. Из корзины… фьюить!
Он говорит это буднично, присвистывает легко, а старушка охает и даже останавливает на мгновение бег своих спиц.
— Ох, лышенько! Зачем же вы так, Дмитрий Дмитрич?!
— А вот так… Послушайте вот, расскажу я вам одну историю. Был я тогда молод, глуп… Работал я в одной газетенке. И влюбился в женщину. О, какая это была женщина! Красива, умна, как черт, сексуальна. Была у меня с ней связь. Дружил с ее знакомым — хорошим таким, старой закваски, еврейским доктором. Я написал ей роман. Про меня, про нее. Как будто мы в Париже — в котором тогда только в мечтах и бывал. Водоворот приключений, вкус перно, силуэт Башни… Вдохновенно писал тогда я, черт подери! А потом она принесла мне свой роман почитать… И были там такие моменты, такие, значит, куски, что понял я, что доктор-то — то ли был ее любовником, то ли остается. И такая меня, понимаешь, тоска взяла… что пошел я на стройку за редакцией, купил чекушку водки — знаете, продаются у нас в России такие «мерзавчики», по ноль двадцать пять?! Ага. Да, вот… А теперь я в Париже. В Париже, родная вы моя! Пью перно, и кальвадос, и вообще все, что горит. Хожу по этим улицам, говорю по-французски… Мечта сбылась, да? А счастья нет.
— Так с романом-то что приключилось, Дмитрий Дмитрич?!
Он медлит. Отрывает лоб от запотевшего стекла — на бледной коже капли воды. Сыро.
— …да и сжег я его. Листочек за листочком, двести примерно. Сжигал и пил, пил да сжигал.
— Охо-хо, Дмитрий Дмитрич… Отчего ж так?
Он резко оборачивается к ней, на лице — улыбка грустная и тихая. Делает еще глоток из фляжки, позвякивая крышечкой.
— А потому, что… не имею права. Раз кто-то любит ее, да и она… Нет! Не имею. Так вот, какое я право о СИМОРОНе писать имею, тварь я дрожащая?
Майбах подходит к конторке, облокачивается. Смотрит на вязание. Вдруг склоняет голову, лукаво говорит:
— А пойдете нянькой ко мне, Варвара Никитишна? Ариной моей, Родионовной…
— Господь с вами, Дмитрий Дмитрич!
Капли мерно колотят о жестяные козырьки, о туго натянутый тент над входом — этот стук слышно и тут, за двойным рядом дверей. Наверно, потому, что во всем доме — мертвая тишина.
— Я не люблю бисерить словами, — задумчиво говорит Майбах. — Это для меня инструмент профессиональный, не могу я позволить так им распоряжаться, легко растрачивать… Не люблю я стихов глупых. Je simorone, tu simorones, il a simorone… Не люблю танцевать, ни зикры, ни танцы круговые. Медитировать не люблю и не умею. Полетов этих радостных, внутрь себя, ни разу не испытывал. Радости-то две остались: хорошая выпивка и хорошая сигара. Есть у вас сигара, Варвара Никитична? Нет у вас сигары. Вот и все. Какое я право имею писать о весельчаках этих, волшебничающих? Ни-как-ко-го. Грустный я человек, Варвара Никитична. Ну, так будете у меня нянькой?
Старушка вздыхает. Поднимает на него ясные глаза, собрав морщинки у края.
— Нянькой-то? Да разве у вас детишки есть, Дмитрий Дмитрич?!
— Есть. В России. Двое.
— О, господи! Мальчики али девочки?
— И мальчик есть, и девочка…
Он легко отскакивает от конторки и начинает кружиться в каком-то непонятном танце, делая глотки из фляжки. Листком бумаги машет в руке, как платочком.
— Господи еси… Чего ж молчали?!
Он не слушает ее. Бормочет.
— Молчал… А зачем? Кому это интересно… Нет счастья, нет. Счастье в борьбе. И все мои романы — про войну, Варенька… про кровь, про боль, про потери. Наша Любовь — это наша Война, и нам этой битвы хватает сполна… Наша Война — это наша Любовь, и в этой войне льется нужная кровь! Не зовет никуда в горние выси моя писанина, не радует. Не заставляет воспарить… Так нянькой-то будете?! Вернемся в Россию…
Варвара Никитишна вздыхает и, наконец, откладывает свое вязание. Смотрит на Майбаха ласково — бабушкиным добрым взглядом.
— А с издательством-то как, Дмитрий Дмитрич? Куды ж его денете?
Оборвав танец, Майбах подходит и кладет на темное дерево конторки белый листок с текстом, с размашистой росписью. Варвара Никитична достает очки, водружает на нос…
— Покупают его. Издательство, — тускло сообщает Майбах. — За пять миллионов в Европе. Господин Онэссим Гаон присоединяет к своей империи. NOGA. Ха! Босая нОга… Видать, не забыл, как мы тогда его уделали, с его претензиями. Мстит, можно сказать… На пять миллионов. На житуху расейскую хватит, как думаете?
Варвара Никитишна смотрит на него, оторопев; листок бумажки подрагивает. Майбах забирает у нее это письмо и начинает подниматься по лестнице. Не дождавшись реакции, бросает:
— Закрываем лавочку, Варенька… Повезете вы меня чичас домой.
Он продвигается дальше по лестнице и, кажется, разговаривает сам с собой. Цепляясь за перила и пошатываясь, хлопая по этим перилам рукой, бормочет громко, никого не стесняясь:
— Жили-были три волхва, три царя магических: Гаспар, Мельхиор и Валтасар. И было у них три царевны-невесты… Пошла первая невеста за них замуж, да не дошла — Абраксаша не захотел. Нашла она себе принца земного, человеческого. Вторая пошла замуж… И опять помешали ей. Не вышла замуж. Третья осталась. А третьей — что? А третьей его не дано… Иии-эх! Было у отца три сына, двое умных, а третий — издатель…
Бормотание его, становящееся все более бессвязным — ибо с каждой ступенькой он все прикладывается к фляжке в кожаной шершавой оплетке, — бормотание его стихает где-то на втором этаже.
По козырькам отчаянно лупит дождь, словно пытаясь достучаться до сердца, что-то сказать, от чего-то предостеречь отрывистой своей азбукой Морзе… По большому счету, дождь — единственный, кому сейчас все равно — что будет дальше с этими царевнами, с волхвами и их эгрегорами; что будет с Парижем и его тротуарами, что будет с этой землей.
Будет все, как было. Abres as Habra!
Новосибирск, Академгородок
Сентябрь 2006 года
Бог
Сатана
Все включено
Готовьте мелочь! (англ.).
Дерьмо! (фр.).
Пошмелье? Это очень интересно! (фр.).
Эй, официант! Две порции русской водки, безо льда! (фр.).
Гладкий, ровный, лощеный. (фр.).
Смерть в горах нечистот. Спасите Мадлен! (фр.).
Что это такое? (фр.).
Я симороню,
Ты симоронишь,
Он симоронит!
Мы симороним,
Вы симороните,
Они симоронят! (фр.).
О, дерьмо! (фр.).
Закройте этого господина в комнате корректоров! Никакой пищи, никакого пива… и не позволяйте ему ходить в туалет, пока он все не исправит обратно! (Фр.)
Да, патрон! (фр.).
Войдите! (фр.).
Элиза, оставьте нас… (фр.).
Дерьмо! Черт возьми!!! (фр.).
О, Симорон, я хочу тебя!
Твое тело прекрасно и округло,
Чтобы съесть тебя, я разорву свой рот… (фр.).
Мы должны найти сообщения в этой книге! (фр.).