— Солнышко, солнышко, выгляни в окошко, — пропел Николай вполголоса. — Да! — воскликнул он, словно вспомнив. — Как твой поход?
— Успешный поход, — вздохнула мать. — Не так ты живешь, Коля! — сказала она, будто продолжая давний разговор, будто не слыша его радостных воплей, привычных шуточек.
— Э нет! — живо откликнулся Николай. — Так не пойдет. Сначала гони трояк, а потом я буду слушать тебя сколько хочешь, хоть все утро! И слова поперек не скажу.
И тут он заметил в руках у матери не зелененькую бумажку, которую ожидал увидеть, а красненькую. Значит, мать принесла десятку! Ну, дает старуха! Ей же цены нет!
— Да тебе цены нет! — воскликнул он.
— Трояк мне цена, — невесело откликнулась мать.
— Что ты! Какой трояк, если ты десятку в руках держишь?! Нет, маманя, не прибедняйся!
— Возьми, — она протянула деньги. — Сдачу-то отдать надо, у них у самих дело к получке идет.
Николай легким движением взял десятку, дунул на нее, посмотрел на свет, покусал за угол, как бы проверяя — не фальшивая ли, и тут же, словно забыв и о десятке, и о матери, сунул деньги в карман, думая о чем-то другом.
Нет-нет, Николай любил свою мать, никогда не говорил ей грубых слов, старался не дерзить, отделываясь шуточками. А после своих похождений неизбежно возвращался в эту небольшую ее квартирку, возвращался как в старую, надежную берлогу, где в полной безопасности можно отлежаться, зализать раны и снова выйти отсюда сильным и беззаботным. Одно то, что такая берлога существовала, что был человек, который всегда ждал его, давало Николаю уверенность, что в конце концов все кончится хорошо, любые неприятности отвалятся от него, как короста от зажившей, здоровой кожи. Он понимал, мать не в восторге от его легкомыслия, шалостей, но искренне полагал, что есть недостатки и похуже.
— Олежек, дружок твой школьный, институт кончил, квартиру получил, — проговорила мать.
— Вот теперь давай, — с заметным раздражением ответил Николай. — Рассказывай, кто чего кончил, кто какие деньги зарабатывает, кто на какой машине ездит, — игривое настроение у Николая прошло, слова матери воспринял как грустную неизбежность.
— Женился Олежка, поступил на завод, и вскорости квартиру ему дали… Хорошая квартира…
— Что же он, подонок, на новоселье не позвал?!
— А зачем, Коля? О чем ему с тобой говорить? О том, как вы десять лет назад за одной партой сидели? У него теперь другие интересы. Да и тебе с ним о чем толковать? Какая бутылка сколько стоит, он не знает…
— Вот тут ты, маманя, уже побольнее ударила. Теперь в самый раз о другом дружке поговорить, про Костю пора вспомнить.
— А что Костя? Пьет Костя. В вытрезвителе своим человеком стал, даже денег с него за ночевку не берут, нечем ему расплачиваться. Поговаривают, у него там постоянное место забронировано, даже белье не меняют… Думаешь — молодец только потому, что пьешь меньше Кости? Догонишь, — успокаивающе произнесла она. — Это нетрудно. Дала тебе десятку, а сама вот не верю, что ты мне сдачу принесешь. Не верю, Коля. И до таких времен мы с тобой дожили… О том только думаю, чтоб ты ее хотя бы не за один день спустил, чтобы тебе ее дня на три хватило.
— Зачем же давала? — зло спросил Николай.
— Уж очень ты просил, ведь умеешь просить… Научился.
— Можешь взять ее обратно!
— А ты не отдашь, — с улыбкой проговорила мать. — Не отдашь, Коля.
— Ты так уверена в этом? — он решительно сунул руку в карман.
— Уверена, Коля.
Николая раздражал этот разговор, он опаздывал на встречу с друзьями, но в то же время с удовольствием сознавал, что неплохо выглядит в тугих джинсах, желтом свитере и в черной куртке из настоящей кожи. Он нравился себе таким, стремился быть таким, идти по жизни налегке, без чемоданов и сундуков, набитых тряпками, чувствами, мыслями, восхищался, гордился своей постоянной готовностью прыгнуть в проходящий поезд, в отлетающий самолет, в чужую жизнь и тут же выйти из нее, как из проходного двора.
— Гордости в тебе поубавилось, — продолжала мать, глядя на школьный ранец Николая, который до сих пор висел на стене — она складывала в него штопку, иголки, нитки, пуговицы. — Тебя, Коля, уже трудно обидеть. Еще год назад, всего только год, ты бы вернул десятку после таких моих слов, а сейчас вот не вернул… И я говорю это не для того, чтобы заставить тебя отдать деньги, бог с ними, с деньгами.
— Ты ошибаешься, маманя. Меня сейчас очень легко обидеть.
— Это не то, Коля. Это обидчивость. Это от слабости. Ты стал слабее и потому обидчивее… Интересы помельче стали… Любаша вот уехала, не смогла она с тобой. И ребеночка увезла, какого парнишку увезла!
— Приедет, — успокаивающе протянул Николай.
— Дай бог… Да только не верится.
— Приедет. Погуляет и вернется.
— Не надо так, Коля… Ты ведь знаешь, как она к тебе относилась… Такой жены у тебя больше не будет, таких ни у кого не бывает дважды.
— Ну, маманя, это ты напрасно! Какие девушки в нашем городе иногда попадаются…
— Красивше? В штанах и с сумками на ремнях? У которых бритвочки на шее болтаются? Нет, Коля, я не об этом… Они не будут к тебе так относиться. Побаиваюсь я их, у них ведь бритвочки не зря на шее болтаются, мне все кажется, что они и в руку их не прочь при случае взять. А Любаша…
— Что Любаша? Я к ней плохо относился?
— Когда как, Коля, ты и сам знаешь. Другая бы и тем, что перепадало, сыта была, а эта с характером оказалась. Ведь она не сразу уехала, все надеялась, все уговаривала тебя… А сколько слез в этот передник пролила, пока ты по ночам с дружками куролесил… Нет, неправильно ты живешь, Коля.
Николай прошелся по комнате, постоял, раскачиваясь на носках, не вынимая рук из карманов.
— Эхма, — проговорил негромко. — Мне бы твои заботы.
— Кабы ты взял у меня хоть половину моих забот, другая бы жизнь у нас с тобой началась.
— Авось и та от нас не уйдет. — На прощание чмокнув мать в щеку, Николай, уже не задерживаясь, вышел из квартиры.
Первым, кого увидел Николай на улице, был Сухов. Едва он вышел на крыльцо, как ему сразу бросились в глаза длинные волосы, узкие сутулые плечи и быстрая, какая-то прыгающая походка. Сухов прошел мимо дома, не оглядываясь, хотя вполне мог заметить Николая, мог бы оглянуться на грохот двери. Но не оглянулся, кажется, даже наоборот — прибавил шагу. Почему? Скрывается? Или привел кого-то с собой?
Николай оглянулся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Старуха прошелестела с кошелкой, две девчонки-задрыги проскакали, парень на гоночном велосипеде… Все спокойно.
Сбежав по ступенькам, Николай поспешил за Суховым. Тот успел уже почти скрыться среди прохожих, но его выдавал рост. Оглянувшись несколько раз, Николай немного успокоился — их никто не преследовал. Быстро шагая по мощеному тротуару, он все пытался понять — где допустил промашку, где оплошал, как Сухов мог догадаться, что он живет в этом городе, на этой улице, в этом доме? Как? И вдруг от мелькнувшей догадки похолодел, на какое-то мгновение остановился… Вот они с Суховым перед рассветом возвращаются с реки, измученные всем, что им пришлось перенести, и тут же без сил заваливаются спать на террасе… Да-да, конечно, жена Сухова еще ворчала, срамила, кряхтела, а Николай уже чувствовал, что выключается. Все так и было! Когда он заснул, Сухов забрался к нему в карман, вынул документы. И нет, нет больше неуязвимости! «Ах, как паршиво! Как паршиво!» — крякнул Николай и прибавил шагу.
Когда Сухов остановился на перекрестке, он подошел к нему сзади, сдавил локоть.
— Спокойно, Женя. Это я.
Николай растянул губы в благодушной улыбке и шаловливо посмотрел на Сухова снизу вверх, искоса, как бы между прочим. И встретился взглядом с совершенно незнакомым человеком.
Поняв, что Николай не в силах произнести ни звука, незнакомец снисходительно усмехнулся.
— Спокойно, Женя, — он похлопал Николая по плечу.
— Прошу пардону, — попытался все свести к шутке Николай и, круто повернувшись, зашагал в обратную сторону. Он сел на первую попавшуюся скамейку, закинул ногу за ногу, руки раскинул на спинку, а голову запрокинул так, что видел только редкие осенние листья и синие лоскутья неба. Ему нужно было время, чтобы успокоиться и обрести благодушное, снисходительное отношение к себе и ко всему на свете.
— Ничего себе житуха началась, — проговорил он вслух. И через некоторое время опять повторил: — Ничего себе началась… Если так дальше пойдет, можно сливать воду. Тоже еще, Же-е-ня, — передразнил он долговязого парня. — А хорошим камушком по темечку приласкать — недолго бы ногами сучил.
И тут Николай до ужаса явственно почувствовал в руке прохладную тяжесть камня, ощутил его шершавость, прилипшие комочки земли и выступ, больно впившийся в кожу. Резко распрямившись, он сжал ладони, с силой потер их друг о дружку, пытаясь растереть, стряхнуть неприятное воспоминание.

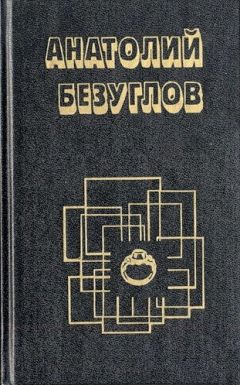
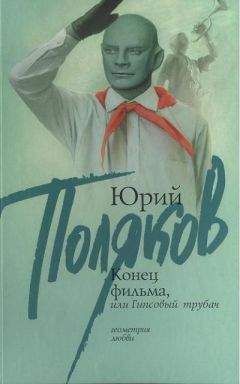

![Ноэль Шатле - Дама в синем. Бабушка-маков цвет. Девочка и подсолнухи [Авторский сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113265/113265.jpg)
