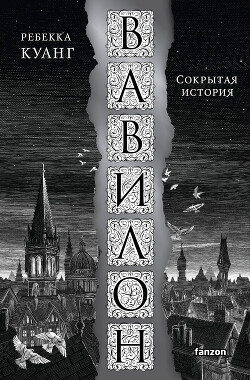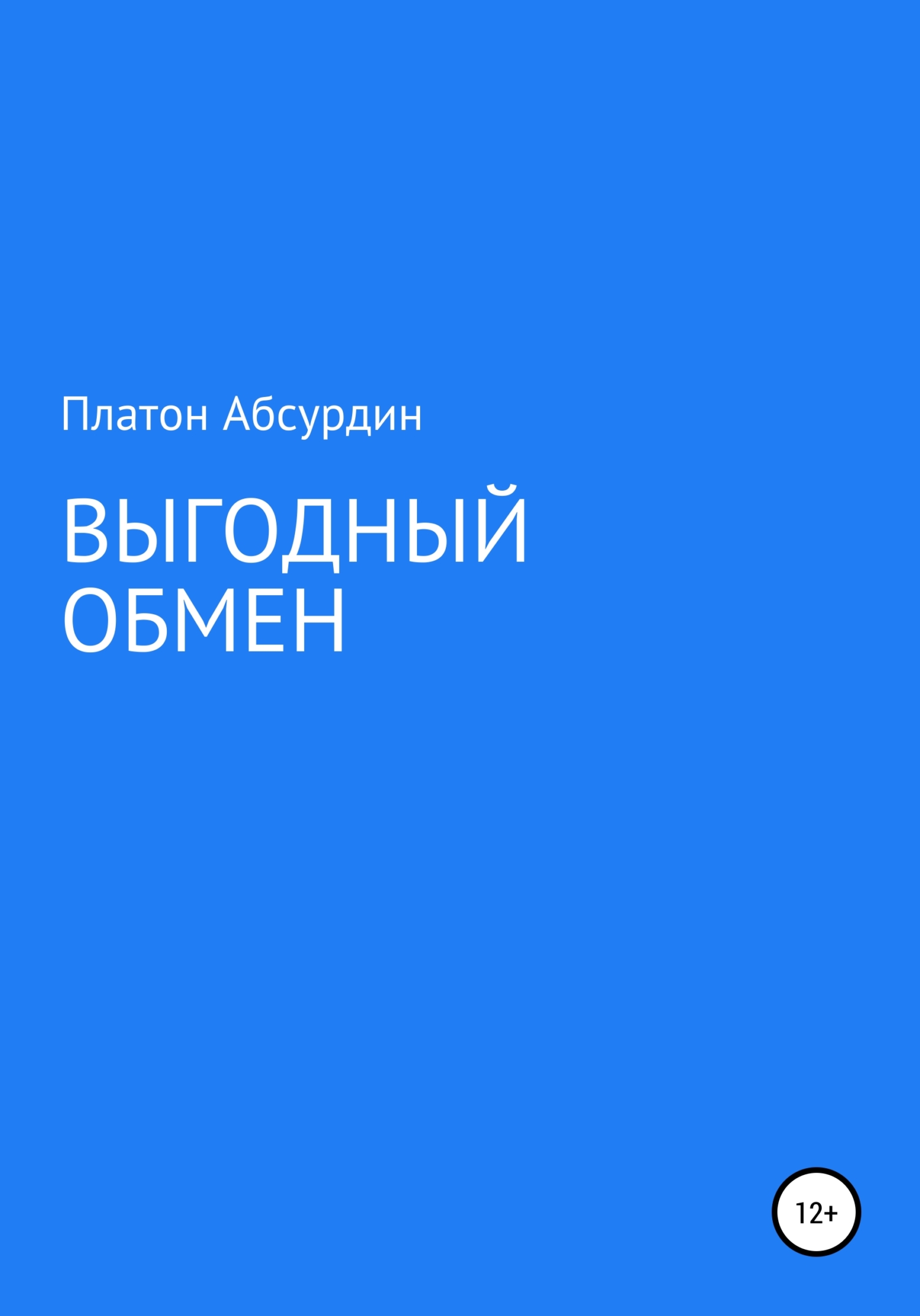Афина, мертвая муза. И я, скорбящая подруга, преследуемая ее духом, неспособная и строки написать без того, чтобы в памяти не ожил ее голос.
Ну что? Кто-то еще сомневается, что я хорошая рассказчица?
На ежегодном семинаре Общества американских писателей азиатского происхождения, где Афина провела одно лето как слушатель, а три — как приглашенный преподаватель, я учредила стипендию имени Афины Лю.
Его директор Пегги Чан, когда я позвонила с этим вопросом, вначале показалась смущенной и подозрительной, но едва поняла, что я предлагаю деньги, как быстро сменила тон. С тех пор она ретвитит все новости о моей книге, засыпая мой Twitter сообщениями типа «ПОЗДРАВЛЯЮ!» и «НЕ МОГУ УЖЕ ДОЖДАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЭТО ПРОЧИТАТЬ!!! #ДЖУНИДАВАЙ!».
Тем временем я проявляю осмотрительность.
То есть занимаюсь исследованиями. Я перечла все до единого источники, которые в своем черновике приводила Афина, и уже сама стала таким экспертом по китайскому Трудовому корпусу, что впору поучать других. Я даже пытаюсь своими силами выучить китайский, но, вопреки стараниям, все символы для меня выглядят так же неузнаваемо, как скребня куриной лапкой, а тонические звуки кажутся тщательно продуманным розыгрышем, поэтому я сдаюсь. (Впрочем, здесь все в порядке: я нахожу старое интервью, в котором Афина признается, что и сама говорит по-китайски не очень, ну а если читать первоисточники не могла даже Афина Лю, то почему должна я?)
Я ставлю себе Google Alerts [12], где указываю также Афину и оба наших имени в сочетании. Результаты поиска выявляют в основном пресс-релизы, в которых не сообщается ничего нового: пересуды насчет моей книжной сделки, упоминания о работах Афины и иногда о том, как ее творчество сказалось на моем. Кто-то пишет длинную и вдумчивую статью об истории литературных дружб, и я с щекотливым трепетом узнаю, что нас с Афиной сравнивают с Толкиеном и Льюисом, Бронте и Гаскелл.
Несколько недель мне кажется, что все в порядке. Никто не задается вопросами о том, как я пришла к своему исходному материалу. Кажется, никто даже не знает, над чем шла работа у Афины.
И вот однажды я вижу заголовок из Yale Daily News, от которого у меня сводит живот.
«Йельский университет приобретает черновики Афины Лю», — оглашает он. Далее вступительный абзац: «Блокноты покойной писательницы и выпускницы Йельского университета Афины Лю скоро станут частью литературного архива Марлина в Мемориальной библиотеке Стерлинга. Тетради были подарены матерью писательницы Патрицией Лю, которая выразила признательность за то, что тетради ее дочери будут увековечены в ее альма-матер…»
«Черт. Черт, черт, черт!»
Все свои наброски Афина делала в тех дурацких тетрадях-блокнотах.
Об этом процессе она даже рассказывала публично. «Поверьте на слово, все свои мозговые штурмы и исследования я провожу вручную, — кичилась она. — Это помогает мне лучше осмысливать, прощупывать темы и взаимосвязи. Думаю, это потому, что физический акт письма заставляет мой ум замедляться, усиливая потенциал каждого слова, которое я обдумываю. Затем, когда я таким образом заполняю шесть или семь тетрадей, я сажусь за пишущую машинку и тогда начинаю создавать свой черновик».
Не знаю, почему мне тогда не пришло в голову захватить с собой еще и ее тетради. Они ведь были прямо там, на столе — по крайней мере три из них лежали открытыми рядом с рукописью. Хотя той ночью я была так всполошена. Думала, наверное, что они отправятся в контейнер вместе с остальными ее причиндалами.
Но чтобы в публичный архив? Вот же блин. Уже первый, кто захочет написать про нее статью — а таких наберется немало, — сразу увидит заметки для «Последнего фронта». Они наверняка там изложены во всех подробностях. Это выдаст меня с головой. Тогда прощай все на свете.
Времени рассусоливать нет, нужно все обдумать до тонкостей. Пресечь в зародыше.
Сердце бешено колотится, когда я тянусь за телефоном и набираю мать Афины.
Миссис Лю просто великолепна. Верно говорят: азиатские женщины не стареют. Ей сейчас, должно быть, ближе к шестидесяти, но на вид буквально тридцать с небольшим. В изысканной миниатюрности и заостренных скулах проглядывает та хрупкая красавица, в которую бы с возрастом превратилась Афина. На похоронах лицо миссис Лю было таким опухшим от слез, что я не различила, насколько оно выразительно; и теперь, вблизи, она так похожа на свою дочь, что меня несколько сбивает с толку.
— Джуни, очень вам рада. Проходите.
На пороге она меня невесомо обнимает. От нее пахнет сухими цветами.
Я сажусь за ее кухонный стол, а она наливает и ставит передо мной чашку горячего, исходящего ароматом чая, после чего усаживается сама. Тонкие пальцы деликатно обжимают ее собственную чашку.
— Вы, наверное, пришли поговорить о вещах Афины?
От такой прямолинейности мелькает тревожная мысль, не раскусила ли она меня. Оказывается, это совсем не та теплая, гостеприимная женщина, которую я видела на похоронах. Но тут я замечаю усталые складки возле губ, тени под глазами и понимаю, что она всего лишь пытается осилить этот день.
У меня заготовлен целый арсенал светских тем: об Афине, о нашей с ней альма-матер, размышления о горе и о том, как трудно превозмогать каждую минуту любого дня, когда одна из твоих жизненных опор в одночасье исчезает. Я ведь знаю, что такое потеря. И знаю, как разговаривать о них с людьми.
Вместо этого я сразу перехожу к делу:
— Я тут читала, вы собираетесь передать тетради Афины в архив Марлина?
Миссис Лю чутко вскидывает голову:
— Да. Вы не считаете это хорошей идеей?
— Нет-нет, миссис Лю! Я вовсе не про это, а просто… Ну а если так, вы не могли бы рассказать, как к вам пришло это решение? — Мои щеки пылают, я не могу выдерживать ее печально-пристального взгляда и опускаю глаза. — Если вы, конечно же, сами не против об этом поговорить. Я знаю, что все это… Об этом невозможно говорить вот так, в открытую: я понимаю, мы не настолько близко знакомы…
— Примерно месяц назад я получила электронную почту от старшего библиотекаря, — отвечает мне миссис Лю. — Марджори Чи. Очень милая девушка. Мы разговаривали по телефону, и мне показалось, что она очень хорошо знает творчество Афины.
Она вздыхает, отпивая чай. Отчего-то мне думается о том, насколько хорош ее английский. Акцент почти неразличим, а словарный запас богат, структуры предложений сложны и разнообразны. Афина всегда особо акцентировала, что ее родители эмигрировали в Штаты, не зная ни слова по-английски, однако английский миссис Лю, по-моему, звучит безупречно.
— Я, признаться, не очень во всем этом разбираюсь. Но у меня впечатление, что публичный архив — это хороший способ сохранить у людей память об Афине. Она была такой необыкновенной — ты же знаешь; ее ум создавал такие обворожительные вещи. Я уверена, некоторым литературоведам было бы интересно провести исследование. Афина бы это одобрила. Она всегда была в восторге, когда о ее работе отзывались ученые люди; для нее это было намного ценнее, чем… обожание масс. Ее слова. На самом-то деле мой вклад достаточно прост.
Она кивает на угол. Я смотрю туда, и у меня перехватывает дыхание. Тетради лежат прямо там, небрежно сложенные в большой картонный ящик, рядом с которым большой пакет риса и что-то вроде арбуза без полосок.
Голову захлестывают фантазии одна безумнее другой. Сейчас вот схватить этот ящик и дать деру; пока миссис Лю спохватится, я уже буду в квартале отсюда. Или облить все это маслом и поджечь, когда она отлучится; никто ничего не поймет.
— Вы не смотрели, что в них? — осторожно интересуюсь я.
Миссис Лю снова вздыхает:
— Нет. Я об этом думала, но… Все это очень больно. Даже при жизни Афины мне было трудно читать ее книги. Она так много почерпнула из своего детства; из историй, которые мы с отцом рассказывали ей, из вещей… из всего нашего прошлого. Прошлого нашей семьи, родни. Первый ее роман я прочла и именно тогда поняла, как трудно читать о таких воспоминаниях с чьей-то чужой подачи. — Голос миссис Лю подрагивает. Она притрагивается к своей ключице. — Я тогда невольно задумалась, а не лучше ли было нам умолчать, уберечь ее от всей этой боли?