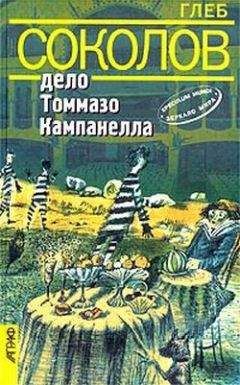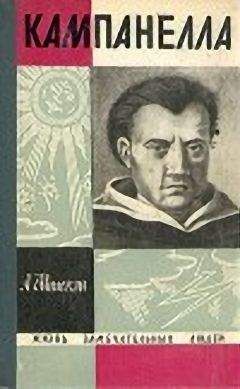Но к этому моменту он уже добрался до дома, в подвале которого находился зальчик самого необыкновенного в мире самодеятельного театра.
На удачу, мимо как раз проходила какая-то старушка, и Томмазо Кампанелла, не долго думая, обратился к ней:
– Бабушка, бабушка, стойте!.. Вы от Лефортово не страдаете? Бабушка, я хочу спросить вас, вам весь этот сумрак, все эти декорации – нравятся? Не страдаете ли вы от них?
– Черт! Такси-то уехало!.. – раздалось за спиной у Томмазо Кампанелла.
Развернувшись, он увидел уголовного вида человека, который стоял у подъезда «Хорина».
Бабушка, так ничего и не ответив, торопливо посеменила прочь.
– Постой, дружок, – проговорил вдруг уголовного вида человек. – А ты, случайно, не Томмазо Кампанелла?
– Да, – ответил, удивившись, хориновский герой. – Я именно Томмазо Кампанелла. Но… Откуда вы меня знаете? По-моему, мы раньше не встречались.
– Кто же здесь не знает Томмазо Кампанелла?! Это имя у всех на слуху! – воскликнул уголовного вида человек. – Дай пожать твою руку и будем знакомы – Жора-Людоед, – представился он.
– Тот самый Жора-Людоед?! Про которого писали в газете? – поразился, но вовсе не обрадовался Томмазо Кампанелла.
– Именно тот самый! – с готовностью ответил Жора-Людоед. – Томмазо Кампанелла, ты себе не представляешь, как я рад, что наконец-то встретил тебя! Чего здесь бродишь?..
– А ты чего здесь бродишь? – в ответ смело спросил у Жоры-Людоеда Томмазо Кампанелла.
– Да вот все про воровские работы думаю. Воровские работы обмозговываю. Мне без воровских работ – нельзя. Работы… – проговорил Жора-Людоед, в то же время задумчиво, словно примеряясь, глядя на Томмазо Кампанелла.
Хориновский герой в этот момент краем глаза заметил, что из дверей подъезда вышел еще один человек, и в следующую секунду Томмазо Кампанелла через пальто почувствовал приставленный сзади к пояснице нож.
– Тихо, фраер… – прошептал тот, что был сзади.
– Это друг мой, Жак, – пояснил Жора-Людоед Томмазо Кампанелла. – Писарь, почище чем ты. Только пишет не по тетрадке и не ручкой.
– Послушай, Жора-Людоед, не знаю, поймешь ты то, что я скажу, или нет, но меня угнетает Лефортово… Впрочем, я в этом не уверен, – неожиданно для самого себя проговорил Томмазо Кампанелла. – Я решил провести социологический опрос: узнать, как действует Лефортово на остальных людей, которые в нем живут. А вы меня вот так вот, с ножом… А я сейчас подумал: честно было бы и у Жоры-Людоеда спросить: а его, Жору-Людоеда, Лефортово угнетает?
– Томмазо Кампанелла, я хорошо тебя понимаю, – сказал Жора-Людоед. – Я хорошо могу понять тебя, потому что я сам рожден для мук и в счастье не нуждаюсь.
Жак по-прежнему стоял за спиной хориновского героя, приставив к нему нож.
Жора-Людоед замолчал, в упор глядя на Томмазо Кампанелла.
– У меня тяжелая судьба, – неожиданно продолжил Жора-Людоед. – Тебе могут подтвердить: в этом подленьком Лефортовском огне у меня сгорело все – надежда и вера сгорели. Могут подтвердить люди, которые пользуются авторитетом. Это большие, светлые личности… Например, Жак.
Жак, по-прежнему державший у поясницы Томмазо Кампанелла нож, угрюмо молчал.
– Меня в четырнадцать лет здесь лишили свободы и били черенком лопаты пока я не понял, с какими местами имею дело. Те, что в погонах, учили меня гестаповскими методами. Ты говоришь: Лефортово угнетает… Я, Жора-Людоед, знаю, что такое Лефортово. Я порывался жить, но в Лефортово те, что в погонах, мне сказали, что нельзя. Они цинично объяснили мне, что матери нас рожают на ощипку. У них, у тех, что в погонах, тогда было просто головокружение от подлости. Но они должны были знать, что я с их погаными правилами все равно никогда не соглашусь. Я для того, чтобы изменить Лефортово, и тогда, и теперь по-революционному готов был грызть их человеческое мясо зубами. Я буду уничтожать тех, что в погонах, я буду жрать их поедом. Думаешь, почему они так стремятся прикончить Жору-Людоеда, Жака, Томмазо Кампанелла и всех им подобных?.. Они же трусливы… Они же трусы. Те, что в погонах, чувствуют, что за такое вот Лефортово рано или поздно придет к ним от нас расплата. Не от одного меня – я лишь простой тюремный человек, но и я буду грызть их зубами, пока хватит сил. Ты говоришь, Лефортово тебя угнетает. И мои губы устали твердить об угнетении. Но я ни разу не дрогнул, как ты, я всегда шел прямо. Потому-то разлука со свободой и счастьем у меня всегда близка и неизбежна. Но я рожден для мук и в счастье не нуждаюсь!
– Людоед, пора с ним заканчивать. Сейчас этот выйдет, который меня… – подал голос Жак. – Неизвестно, как тогда все вывернется!.. Давай, Людоед, возьмем его с собой в Дедовск, вынем душу…
– Погоди, дай с человеком поговорить! Он же настоящий! Сейчас он все поймет и сам по-доброму все сделает, – оборвал его Жора-Людоед. – Своими тюрьмами, своими концентрационными лагерями те, что в погонах, меня не запугают. Каким я был раньше?.. Я был юным, свежим, бегал по траве, росе, срывал цветы. А потом это, – он обвел округу руками, – навалилось… Ты правильно говоришь: угнетает! И не только здесь, в Лефортово, не только здесь угнетает, – Жора-Людоед говорил страстно. – Я жил тогда у покойной мамы в деревне: обвалившиеся заборы, небо в рваных облаках, пьянчуга у забора лежит, дождь, мрачный ветер, покосившиеся избы. Советская власть в лице своих лучших, в кавычках, представителей из милиции издевалась над моими родственниками. Это был геноцид хуже гитлеровского. Я плакал, я рыдал кровавыми слезами. И тогда я решил – рви мясо, ешь, выбегай свирепым волком из дома и грызи человеческое мясо… Я рыдал, я рыдал… В моих слезах было что-то от наслаждения… Я оплакивал этих крестьян. Все это Лефортово течет омерзительнейшим, самым мерзким гноем, здесь все прогоркло. Все эти дома – им давно уже вспороли животы. Я сам за то, чтобы этого не было, но ты, Томмазо Кампанелла, не должен так мне, русскому человеку, говорить: не должен говорить, что это тебя угнетает, не должен ненавидеть Лефортово. Да, это пропащий мир, но я за этот пропащий мир готов рвать человечье мясо голыми руками, зубами. У меня сердце готово расколоться и выскочить из груди. У меня такое огромное чувство тут сидит, – Жора-Людоед показал рукой на свою грудь. – Я в любую минуту готов свалиться и умереть от любви к этому нищему, темному, корявому. Я даже наших нищих люблю. Я не отдам это ни за какие деньги. И только пусть те, в погонах, помнят: ничто не останется неотомщенным. Даже самые лютые страдания неотомщенными не останутся. Пусть не пугают, им не запугать Жору-Людоеда!.. Фабричная, конторская работа, занудство это подленькое – все это не по мне. Я люблю ресторан, удаль, и им не лишить меня хорошего настроения так, как они тебя, Томмазо Кампанелла, его лишили!.. Будь человеком, Томмазо Кампанелла, верни мне то, что тебе не принадлежит!..
– Мне нечего тебе возвращать, – ответил Томмазо Кампанелла. – Тюремного паспорта у меня больше нет… Хотите – обыщите, – Томмазо Кампанелла расстегнул пальто и поднял руки вверх. Жак, не убирая ножа, одной рукой быстро обыскал его.
– Точно, тюремного паспорта нет! – подтвердил волосатый человек. – Только этот… Но это его, не тюремный, – и с этими словами Жак сунул паспорт Томмазо Кампанелла обратно ему в карман. Убрав нож, он вышел из-за спины Томмазо Кампанелла.
– А-а, так ты струсил, Томмазо Кампанелла, скинул тюремный паспорт с рук! – воскликнул Жора-Людоед. – А я думал,– что ты большой, светлый человек. Ошибся, значит!.. Ну что ж, иди, работай в конторку или на фабрику, как те, что в погонах, велят!.. Трудись, как все лефортовские обитатели трудятся!.. Как все здешние конторские да фабричные работнички. Вон они везде, куда ни глянь, воняют, – Жора-Людоед вновь обвел округу рукой. – Подленький обоз свой тащат, на светлое будущее батрачат – наследники своих подленьких трудармий. Не набатрачат!.. Целое интендантство под руководством тех, что в погонах, создали. Я это интендантство всю жизнь ненавидел и буду с ним до последней капли крови бороться. Те, что в погонах, целые армии загнали на Север и принуждают всю страну быть этим армиям интендантством. У них и в Лефортово интендантство. Только здесь те, что в погонах, подленько просчитались. Шило из мешка торчит. Видно – жизни тут нет. Не для жизни строили. Для интендантства. Я их рвал зубами, мне мой романтизм был дороже всей их рабской воли. Мне на допросе цинично объяснили, что моего романтизма надолго не хватит. Потому что держать масть и не уступать власть – тут особые работы нужны, воровские. Воровские работы – то же занудство… Интендантство…
– Людоед, хватит!.. Хватит! – попытался остановить его Жак, но Жора-Людоед продолжал:
– Я, Томмазо Кампанелла, тоже революционер в настроениях. Только не такой трусливый слабак, как ты. Я шел не сгибая головы против Лефортовского интендантства, а меня подленько поставили в ситуацию, когда я вынужден был, просто вынужден был оставить свой романтизм и создать еще одно, свое собственное, карманное интендантство. У меня впереди была колючая проволока, и я не мог позволить себя поранить. У меня борьба была, цель…