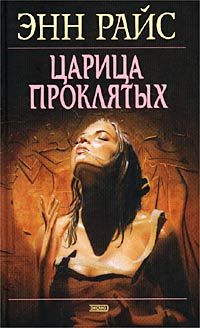Потом я лежал и думал о бедной маленькой Беби Дженкс, о той Беби Дженкс, которую она мне показала, – устремившейся вверх; я видел, как Беби Дженкс взглянула в последний раз на землю и ее обволокли разноцветные огни. Как могла Беби Дженкс, бедная девочка-байкер, выдумать такое видение? Быть может, в конце концов все мы возвращаемся домой.
Откуда нам знать?
Вот мы и остались бессмертными, напуганными, привязанными к тому, чем можем управлять. Все началось заново, колесо совершило полный круг, мы – настоящие вампиры, потому что других вампиров нет; образована новая община.
Как цыганский караван, покидали мы Соному – вереница сверкающих черных машин, на летальной скорости рассекающих американскую ночь по безупречно ровным дорогам. Во время этого долгого переезда они все мне и рассказали – спонтанно, подчас невольно, беседуя друг с другом. Все, что произошло за это время, сложилось в единую картину, как фрагменты мозаики. Даже задремав на синей бархатной обивке, я слышал их, видел то, что видели они.
В болотистые земли Флориды, к Майами, великому городу декадентов – пародии одновременно на ад и на рай.
Я сразу заперся в небольшом номере, состоящем из нескольких со вкусом оборудованных комнат: диваны, ковер, бледные пастельные полотна Пьеро делла Франчески, компьютер на столе, льющаяся из крошечных, спрятанных в стене колонок музыка Вивальди. Личная лестница в подвал, где в отделанном сталью склепе уже поджидает гроб: черный лак, латунные ручки, спички и огарок свечи, обивка, расшитая белым кружевом.
Жажда крови, как она мучит меня! Но кровь мне не нужна, однако я не в силах сопротивляться, и так будет всегда, от нее никогда не избавиться, я хочу ее еще сильнее, чем раньше.
Когда я не писал, то лежал на сером парчовом диване, смотрел, как бриз развевает пальмовые листья, и слушал их голоса.
Луи вежливо умоляет Джесс еще раз рассказать ему о видении Клодии. И до меня доносится голос Джесс, просительный, доверительный:
– Луи, она была ненастоящая.
Теперь, когда Джесс ушла, Габриэль скучала по ней, раньше Джесс и Габриэль часами гуляли по пляжу. Казалось, они не обменялись ни словом. Но откуда мне знать?
Габриэль делала все, чтобы порадовать меня даже в мелочах: не заплетала волосы, так как знала, что мне нравится, когда они свободно лежат на ее плечах, поднималась ко мне в комнату, перед тем как исчезнуть на рассвете. То и дело она поглядывала на меня испытующими, обеспокоенными глазами.
– Ты хочешь уехать отсюда, да? – иногда спрашивал я со страхом.
– Нет, – отвечала она. – Мне здесь нравится. Меня это устраивает. – Когда ее охватывала мизантропия, она отправлялась на острова, расположенные неподалеку. Ей, в общем-то, нравились эти острова. Но не о том она хотела поговорить. У нее на уме постоянно вертелись другие мысли. Однажды она чуть было не выразила их вслух: – Но скажи мне… – И замолчала.
– Любил ли я ее? – спросил я. – Ты это хотела знать? Да, любил.
И все равно я не мог назвать ее имя.
Маэл то приходил, то уходил.
Исчезал на неделю, и снова он здесь – внизу, пытается вовлечь Хаймана в разговор, Хаймана, который завораживал каждого из нас. Первое Поколение. Какая сила! И подумать только, он ходил по улицам Трои.
Его вид постоянно поражал нас, если эти слова не противоречат друг другу.
В своем стремлении походить на человека он заходил весьма далеко. В таком жарком месте, где обилие одежды вызывает подозрения, это непросто. Иногда он покрывал тело темной краской – жженой охрой, смешанной с ароматизированным маслом. Казалось преступлением пачкать такую красоту, но как иначе ему врезаться в людскую толпу, словно скользкий нож?
То и дело он стучался в мою дверь.
– Ты когда-нибудь выходишь? – спрашивал он. Он смотрел на пачку бумаги рядом с компьютером, на черные буквы: «Царица Проклятых». Он позволял мне проникать в его мысли в поисках мелких фрагментов, полузабытых подробностей – ему было все равно. Казалось, он находит меня забавным, но почему – я не мог себе представить. Что ему от меня нужно? И тут он улыбался своей шокирующей улыбкой святого.
Иногда он вытаскивал яхту – черную гоночную яхту Армана, выпускал ее в залив и дрейфовал, лежа под звездным небом. Однажды к нему присоединилась Габриэль, и я почувствовал искушение послушать их на расстоянии – они беседовали очень интимно. Но я этого не сделал. Это было нечестно.
Иногда он говорил, что боится потерять память, что это наступит внезапно и он не сможет найти дорогу домой, к нам. Но ведь в прошлом это случалось из-за страданий, а теперь он был счастлив. Он хотел, чтобы мы это знали: он был счастлив оттого, что находился рядом с нами.
Кажется, они там, внизу, достигли какого-то соглашения – куда бы они ни шли, они обязательно вернутся. Это будет дом нашей общины, святилище, и так, как было раньше, больше не будет никогда.
Им многое пришлось обговорить. Никто не должен плодить новых вампиров, никто не должен писать новые книги, хотя они, естественно, знали, что именно этим я и занимаюсь, молча выуживая из них всю информацию по кусочкам, и что я, как всегда, не стану подчиняться навязанным мне кем-то правилам.
Они испытывали облегчение оттого, что Вампир Лестат погиб на страницах газет, что паника после концерта была позабыта. Никаких доказательств смертей, никаких настоящих телесных повреждений, каждому уплачена кругленькая сумма, группа, получившая мою долю, снова гастролирует под старым именем.
А беспорядки – краткая эра чудес – тоже были забыты, хотя удовлетворительного объяснения им так и не нашли.
Нет, хватит откровений, разрушений, вмешательств, это всеобщая клятва, и пожалуйста, прикрывайте убийства.
Это они пытались вбить в голову исступленному Дэниелу – ведь даже в огромных гноящихся городских джунглях вроде Майами необходимо принимать все меры предосторожности в том, что касается останков наших жертв.
Ах, Майами. Я снова слышал негромкий рокот множества отчаявшихся смертных, шум больших и маленьких машин. До этого я лежал на диване, как камень, и погружался в городские голоса. Я имел возможность управлять этой способностью, просеивать их, выбирать, усиливать хор различных звуков. Но я уклонился, так как не мог пользоваться ею с уверенностью, равно как не мог применять свою новую силу.
Да, но мне было хорошо рядом с этим городом. Мне нравились его непрочность и блеск, старые отели, похожие на лачуги, и сверкающие высотные здания, его знойный ветер, его вопиющий упадок. Я слушал непрекращающуюся городскую музыку, тихий пульсирующий напев.
– Что же ты туда не съездишь?
Мариус.
Я поднял глаза от компьютера. Медленно, чтобы поизводить его, хотя среди бессмертных человека терпеливее не найти.
Он прислонился к косяку выходящей на террасу двери, скрестив руки на груди. За ним сияла панорама огней. Было ли что-нибудь подобное в древнем мире? Вид электрифицированного города, набитого башнями, раскаленными, как решетка старого газового камина?
Он коротко подстриг волосы и надел простой, но элегантный костюм двадцатого века: серый шелковый блейзер и брюки, а красным элементом – без него он не мог обойтись – на сей раз была водолазка.
– Я хочу, чтобы ты отложил книгу и спустился к нам, – сказал он. – Ты сидишь взаперти больше месяца.
– Я иногда выхожу, – ответил я. Мне нравилось смотреть на него, на его неоново-голубые глаза.
– Эта книга, – сказал он. – Зачем она? Хоть это ты мне скажешь?
Я не ответил. Он сделал более настойчивую попытку, хотя и тактично:
– Разве песен и автобиографии недостаточно?
Я пытался решить, почему у него такой дружелюбный вид. Может быть, причиной тому крошечные линии, которые все еще иногда возникали вокруг глаз, небольшие складки кожи, появлявшиеся, когда он начинал говорить?
Большие, широко раскрытые глаза, как у Хаймана, производили удивительное впечатление.
Я опустил глаза к экрану компьютера. Электронное отображение языка. Почти закончил. Все они знали об этом, все время знали. Поэтому они добровольно предоставили мне столько информации: стучались, входили, рассказывали, уходили.
– Так зачем об этом говорить? – спросил я. – Я хочу записать все, что случилось. Ты знал об этом, когда рассказывал о тех событиях, которые были известны тебе.
– Да, но для кого ты это записываешь?
Я снова вспомнил фанатов в зрительном зале, известность и те отвратительные моменты в деревнях, когда я, безымянный бог, стоял рядом с ней. Несмотря на ласкающее тепло и на бриз, дувший с воды, мне вдруг стало холодно. Неужели она была права, считая нас алчными эгоистами? Или когда называла эгоистичным наше желание оставить мир таким как есть?
– Ты знаешь ответ на этот вопрос, – сказал он. Подошел ближе и положил руку на спинку моего кресла.
– Это была глупейшая мечта, правда? – спросил я. Мне было больно говорить об этом. – Ее нельзя было бы воплотить в жизнь, даже если бы мы объявили ее богиней и подчинялись бы любому приказу.