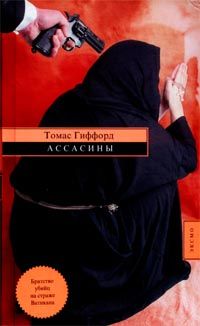— Послушай...
— Нет, я не буду тебя слушать! — Заплаканные зеленые глаза так и вспыхнули гневом. — Если я хоть чуточку тебе дорога, ты должен прекратить все это. И никогда, слышишь, никогда, не смей больше так со мной говорить! Помни, кто ты и кто я... Ты просто обязан уважать меня!...
Она встретилась со мной взглядом, слезы на лице уже почти высохли. Никогда не забуду этот миг. Передо мной наконец-то была настоящая Элизабет. Но длилось это всего секунду, не больше. Она менялась, удалялась от меня, точно призрак. Я снова все испортил, довел ее до слез своим неловким прикосновением. Лицо ее побелело от напряжения, губы дрожали, в глазах читалась тревога. И тогда я не выдержал, притянул ее к себе и начал покрывать поцелуями это бледное лицо, мягкие, соленые от слез губы. Я ощутил, как решимость оставляет ее, как она трепещет в моих объятиях, и вызван этот трепет не только гневом и отрицанием, но и чем-то еще, более потаенным. Я целовал ее в губы и щеки, вдыхал запах ее волос. Элизабет...
И вот она отстранила меня, нежно, но твердо, и руки ее скользнули вниз, и прикрывали теперь груди, только что прижимавшиеся к моей груди. А потом она молча покачала головой. Нет, нет, нет. И вдруг я прочел на ее лице страх. Она меня боялась. В этот момент она словно превратилась в монахиню-еретичку, а на меня смотрела как на инквизитора, зная, что скоро сгорит, что языки пламени будут лизать ее, что конец уже близок.
Я все прочел на ее лице. Ее отказ. И тут же укорил себя. Я должен был предвидеть это с самого начала. Зря только доверился ей. Я прочел это в ее глазах, плотно сжатых губах. Она одна из них. Я доверился ей, сам виноват. Глаза ее смотрели словно сквозь меня, точно стали частью какого-то бесконечного кошмара о невозможности, бессмысленности любви. Она так и осталась монахиней, она не женщина, нет!
— Нам не о чем больше говорить, — прошептала она. — Ты ставишь меня в дурацкое положение.
Я тоже не знал, что сказать.
— Дрискил... — снова шепот, на сей раз еле слышный. — Пожалуйста, не смотри на меня так, Бен.
Я поднялся.
— Ну что, пошли? — И протянул ей руку.
Она отрицательно покачала головой. И тогда я двинулся прочь, мимо туристов и священников. Священников тут было множество. Еще бы, поворотный момент в истории. Папа умирает. В Рим приезжают все новые заинтересованные лица.
Ветер по-прежнему надувал паруса, мальчик визжал от радости. Отец смотрел на него с гордостью.
— Браво, Тони! Молодец, старина! — Англичане продолжали играть в свои игры.
Я обернулся и увидел, что Элизабет стоит у самого берета и плечи у нее вздрагивают. И что около нее стоит священник, видно, предлагает помощь или утешение.
* * *
Оставив ее, я слепо брел вперед, мне было все равно, куда идти и что делать. Главное теперь — взять себя в руки, и еще я изо всех сил старался понять, что у нас пошло не так на фоне этой идиллической обстановки. А потом напомнил себе, с какой целью приехал в Рим...
Разум подсказывал: не стоит обращать свой гнев против Элизабет, она такая, какая есть. Там, где у других женщин гнездились теплота и желание, у нее была лишь пустота и замкнутость. И я снова допустил ужасную ошибку, выставил себя круглым дураком. Прямо в привычку уже вошло.
Но самое странное заключалось в следующем. Тот факт, что она разом лишила меня всех глупых надежд и мечтаний, почему-то вызвал прилив бодрости. Вернул к той цели, которую я преследовал еще до появления в Париже. Терять мне снова было нечего. Осознав, какие чувства я испытываю к Элизабет, я как-то утратил решимость и последовательность. И страх я тогда испытывал лишь потому, что у меня вдруг появились самые веские причины жить. Еще бы, ведь я неожиданно понял, что влюбился. Но она нанесла удар в самое сердце, с той же жестокостью и резкостью, что и Хорстман, пытавшийся убить меня в Принстоне, и тем самым обрубила связывающие меня с ней и самой жизнью нити. Я ощутил, что свободен от нее. Возможно, тем самым она просто спасла меня. Теперь мне нужен был только Хорстман, никто больше.
Немного успокоившись, я вдруг понял, что одинок и что надо хоть с кем-то поговорить. Выбор был невелик.
Отца Данна я нашел в пансионе, где он снимал комнату; в отличие от меня он предпочел остановиться именно здесь, а не в роскошном номере отеля «Хэсслер». И мотивировал тем, что отель — это часть Ватикана.
— Да там из-под каждой двери несет предательством, неужели не чувствуете? Нет, Бен, «Хэсслер» не для меня, особенно сейчас. — Он сидел за простым столом у окна, оно выходило на узкую улочку. Курил сигару и разглядывал лежавший перед ним пакет в клеенчатой обертке. — Я видел, как вы подходите к дому, — сказал он и выпустил длинную струю дыма.
— Получили посылку? — Я кивком указал на пакет.
— Как видите. — Он развязал бечевку, снял клеенку, под ней оказалась тряпка, пропитанная смазкой.
На столе лежал пистолет-автомат 45-го калибра казенного образца. Серьезное оружие. Не игрушка.
— Что вы за священник такой?... — пробормотал я. Во рту у меня пересохло. Он взял пистолет, взвесил на ладони. Меня повсюду подстерегают одни неожиданности, подумал я.
— Священник, который собирается остановить их прежде, чем они остановят его. Я ведь вам уже говорил. Они убивают людей. Ваше оружие на Хорстмана впечатления не произвело. Может, и о моем подумает то же самое.
И он тихо засмеялся, завернул пистолет в тряпку и клеенку, а потом убрал сверток в чемоданчик и сунул его под кровать.
— Пошли прогуляемся, — сказал он. — Нам надо поговорить. Кстати, не люблю огорчать людей, но выглядите вы как после автокатастрофы. Может, расскажете, в чем дело, мальчик мой? Во всем люблю ясность. Повеселите меня.
* * *
Он неплохо знал путаную географию этого окраинного района. Я едва не испустил вздох облегчения, когда мы прошли по мосту и оказались в более людном месте. По пути он рассказывал мне о достопримечательностях, которые давным-давно перестали существовать.
— А вот это площадь Святой Аполлонии. Вон там, на том конце площади, некогда стояла церковь Святой Аполлонии. Теперь ее, разумеется, нет. Некогда там находили приют кающиеся женщины. В августе 1520-го к ним пришла дочь пекаря, девушка по имени Маргерита. Маргерита... теперь ее знает весь мир. Она была любовницей Рафаэля, с нее, дочери простого пекаря, он писал свое знаменитое плотно «Форнарина». Она же служила моделью при написании Сикстинской Мадонны. И «Женщины под вуалью». Дерзкие маленькие груди, соски, напоминающие бутоны розы. Через четыре месяца после смерти Рафаэля она стала монахиней... Она присутствует даже на последней его работе, «Преображение», что находится в галерее Ватикана. А писал он ее здесь, на этой площади. — Он продолжал шагать дальше, указывая то на одну достопримечательность, то на другую, и вот мы вышли на Виа делла Лунгаретта. Данн оказался прекрасным психологом, успокаивал и утешал меня неумолчной и занимательной своей болтовней.
Мы зашли в кафе выпить по стакану холодного белого вина. В центре площади плескал струями фонтан, играли ребятишки, и, выпив вина, я немного ожил.
— Смотрю, вы любите рассказывать разные истории, — заметил я. — Расскажите мне об этой вашей пушке.
— О, это нечто вроде талисмана. Сувенир, оставшийся после службы в армии. После войны я учился в Риме, ну и оставил пистолет одному своему другу. И буквально вчера заскочил к нему. Сидели, вспоминали старые добрые времена. Ну а потом я вдруг решил взглянуть на свой старый мушкетон. И обнаружил, что друг неплохо заботился о моем сувенире. — Он пожал плечами. — Да не придавайте этому значения, Бен. — Он жестом попросил официанта принести нам еще вина. Легкий ветерок обдувал площадь. Девочки заливались серебристым смехом, туристы бросали в фонтан монетки. — А теперь ваш черед. Расскажите, почему, придя ко мне, вы выглядели так, словно вас грузовик переехал. В чем проблема?
Говорить с Арти Данном всегда было приятно. Возможно, потому, что ничего его, похоже, не удивляло. И еще он застиг меня как раз в тот момент, когда мне хотелось выговориться. И вот я рассказал ему об Элизабет и себе, всю историю, начав с того снежного вечера в Парке Грэмерси, когда Вэл еще была жива. Рассказал и о том, как Элизабет внезапно появилась в Принстоне, как помогала мне пережить смерть сестры, как затем стала помогать в расследовании, где так пригодился ее живой острый ум. Как именно она пришла к выводу, что тут не обошлось без ассасинов, обозначив тем самым нашего врага, который до сих пор представал лишь в смутном образе пожилого седовласого священника с кинжалом. У нее все это сложилось в связный рисунок, как на гобелене. Она сумела выйти на Бейдел-Фаулера, ей удалось протянуть связующую нить между прошлым и нашими днями. Когда все, казалось, зашло в тупик, она продолжала двигаться вперед... и оказалась права. А потом я сказал ему, что влюбился в нее, и о том, что произошло в Садах Боргезе.