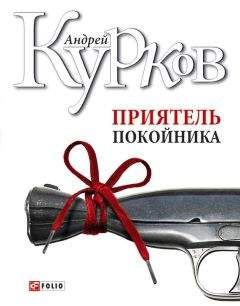Постепенно успокоившись и все-таки помыв руки, я продолжал думать об этих долларах. После долгих попыток определить не то чтобы свое отношение к ним, а, скорее, отношение между мной и ими, я вдруг нашел то единственное слово, которое все расставило по своим местам. Я понял, что эти доллары – ЧУЖИЕ! Что они просто мне не принадлежат. Сразу физическое напряжение в отношении к ним исчезло. Пропало ощущение неприятного зуда в пальцах. Что с того, что они – «грязные»? Все деньги «грязные», кроме свежеотпечатанных. Все деньги проходят через руки и карманы мошенников, преступников, взяточников. Это судьба любого платежного средства.
Теперь, когда я уже знал, что эти деньги чужие, я знал и того, кому они принадлежат. И возврат этих денег был лишь вопросом времени и моей решительности.
А снег все шел. И я уже не думал о деньгах. Я думал о женщине, которой они принадлежат, хотя она этого пока и не знает. Ее фотография снова лежала передо мной. Рядом остывала недопитая чашка чая.
Вместе со снегом на город опускался вечер.
Еще два дня прошли, сопровождаясь одиночеством и снегопадом.
И за эти два дня я окончательно дозрел для того, чтобы исполнить свой, пусть самим же собой и придуманный, но все-таки долг.
Я положил возвращенные мне Димой доллары в конверт. Туда же добавил полтинник из Костиного бумажника. Переписал на этот конверт Костин адрес и, потянув еще время, вышел из дому около полудня. На Борщаговскую я решил пойти пешком. По моему представлению, на это могло уйти от силы полтора часа.
Свежий морозный воздух бодрил.
Я шел не спеша, и это в моем сознании как-то не вязалось с моей утренней решительностью. По дороге мне попался гастроном с кафетерием. Я увидел за стеклянной витриной людей, пьющих кофе, и очень обрадовался. Зашел, стал в короткую очередь.
И кофе я пил медленно. Кофе был горький, пережаренный. Его вообще можно было и не пить. Но я по-мазохистски тянул время.
И уже когда нашел и дом, и подъезд – промелькнула надежда, что за покрашенной синей краской фанерной дверью никого не будет. Я нажал на кнопку звонка.
«Ну, – подумал, – минутку постою и пойду…»
Но за дверью послышались шаги, и я замер в напряженном ожидании.
На меня долго смотрели в дверной глазок. Потом женский голос осторожно спросил:
– Вы к кому?
К этому вопросу я был не готов. Я посмотрел на дверной глазок и почему-то подумал, что эти глазки всегда искажают лицо человека.
– …Я – знакомый Кости… – неуверенно произнес я.
Дверь приоткрылась. На меня смотрело знакомое по фотографии лицо, только было оно свежим – никакого следа от той фотографической усталости. И волосы были длиннее, чем на фотографии. Волосы были красивые, каштановым шелком они опускались на плечи. На ней была длинная черная юбка и бледно-красная шерстяная кофточка. В таком наряде дома не ходят, и я подумал, что она куда-то собирается. Эта догадка меня даже обрадовала.
– Я ему был должен… Понимаете… Извините, я не знаю вашего имени… – голос мой звучал так неуверенно, что напряжение покинуло ее лицо и по ее взгляду я понял, что сейчас она пригласит меня войти.
– Марина, – она протянула мне руку.
Я назвал свое имя.
– Входите, – она отступила от двери. – Только потише – Миша спит.
Я кивнул.
Она провела меня на кухню.
– Кофе будете?
– Да.
– Мне очень жалко, что с Костей произошло такое… – заговорил я. – Вам теперь нелегко…
Она стояла у плиты и при этих словах обернулась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.
– Вы знаете, – заговорила она уставшим голосом. Между словами повисали длинные паузы. – …это так странно… Вы первый человек, кто вот так просто высказал соболезнование… Когда его не стало – было много телефонных звонков. Какие-то люди хотели только подтверждения его смерти. Будто не верили, будто думали, что их обманывают. И я слышала в их голосах недовольство. Они были очень недовольны его смертью. Но никто из них ни разу не пожалел нас, не спросил, как нам теперь без него живется… Вы хорошо его знали?
– Нет, честно говоря, не очень… У нас были деловые отношения… – Я вытащил из кармана конверт и положил его на стол. – Но я знал, что на него всегда можно было положиться… Он был готов помочь… Вот…
Марина слушала, но не смотрела на меня – она готовила кофе. И поэтому мне трудно было говорить. Я замолчал.
Тишина продлилась еще пару минут. Потом она села напротив.
Мы пили кофе.
Она смотрела на конверт. В какой-то момент она взяла его в руки и заглянула внутрь.
Я ждал какой-нибудь реакции, может, благодарности, если не словесной, то во взгляде ее глаз. Но ни один мускул на ее лице не шевельнулся.
– Очень тяжело, очень тяжело без него, – медленно проговорила она, опустив голову и глядя на свой кофе. – С ним тоже было иногда тяжело, но не так… Я сижу здесь и зверею. Малыш еще очень маленький, на улицу с ним в такой мороз не выйдешь… А сама я от него оторваться не могу. Костины родители не звонят. Думают, что я их ненавижу после его гибели…
– Может, я мог бы чем-то помочь?..
– Спасибо, – сказала она кивнув. – надо только зиму переждать, там будет легче…
Я смотрел на нее, сидящую напротив. Опустившую голову, смотрящую на стол. Она была красивее своей фотографии, намного красивее. Это было неудивительно. И не только потому, что фотография была черно-белой, а краски, которыми я пытался в мыслях оживить ее лицо, больше походили на старинную коричневатую ретушь. Но усталость, которую я не увидел в ее лице, все-таки присутствовала. Она присутствовала в ее голосе, в движениях, в ее позе за столом.
Кофе был допит.
Я поднялся из-за стола.
– Можно, я вам оставлю свой телефон? Может, нужна будет какая-нибудь помощь?
Она согласилась, и я записал свой номер в ее настольную телефонную книгу.
Торопливо попрощался и вышел.
Уже отойдя от дома, я вдруг подумал о том, что у меня нет ее телефона. Остановился. Оглянулся на ее хрущевскую пятиэтажку, поискал взглядом ее окна на третьем этаже. Но я ведь даже не обратил внимания, куда выходят ее окна. Да и неважно это было. А то, что у меня нет ее телефона, это не страшно… Может быть, когда-нибудь она сама позвонит?!
И я продолжил путь.
Я раньше и не думал, что ощущение исполненного долга может как-то влиять на настроение. Для меня это понятие было скорее книжным, чем-то из рассказов про Павлика Морозова. Да и к самому слову «долг» всегда напрашивалась саркастическая интонация, конечно, если речь не шла о денежном долге. Но денежных долгов я всегда старался избегать. И вот на тридцать пятом году жизни первый раз слово «долг» прозвучало в моих мыслях как обычное полноценное понятие. Мало того, при этом слове на душе стало спокойно. Наступило какое-то удовлетворение или самоудовлетворение. Я подумал о себе хорошо. И все из-за этого ощущения исполненного долга, замаскированного под совсем другой долг – денежный.
Вероятно, поэтому утро наступило для меня необычайно рано. И я слонялся по своей однокомнатной квартире, переполненный энергией, но не знающий, как и на что ее потратить.
За окном наступало утро – было еще темно, но горящие окна в доме напротив как бы ускоряли наступление позднего зимнего рассвета.
Начинался новый день.
И мне хотелось чего-то нового. Новой жизни? Новых ощущений? Не знаю. Скорее – новых иллюзий.
На моих глазах светало. Природа поднимала занавес, за которым начинался новый день. И то, что я в это утро оказался свидетелем поднятия этого занавеса, тоже добавило мне уверенности в том, что день будет действительно новый и что именно в этот день что-то новое начнется и в моей жизни.
Безоблачное небо отливало мягкой голубизной. Невидимое из моего окна солнце опустило свои нежно-желтые лучи на искрящийся снег. В окнах дома напротив уже потушили свет. Я посмотрел на часы – было без пятнадцати десять.
Но день не оправдал моих ожиданий. А вечером позвонила Лена-Вика.
– Уже выздоровела? – спросил я ее.
– Да. А ты скучал без меня?
– Мне было очень одиноко… – признался я.
– Да?! – прозвучал в трубке возглас приятного удивления, и я услышал в этом возгласе довольную улыбку. – Могу приехать. Как ты?
Мне было бы легче услышать от нее привычное «через час буду!», чем этот вопрос, требующий моего подтверждения.
– Конечно, приезжай! – сказал я.
– У тебя какой-то странный голос сегодня, – произнесла она задумчиво и тут же добавила уже более живо: – Через час буду.
И положила трубку.
А я сел за кухонный стол и стал ее ждать. И пока ждал – накапливалось во мне желание увидеть ее, крепко обнять. Я был сердит на нее, сердит за свое долгое одиночество. Но не прошло и десяти минут после ее телефонного звонка, как я ее простил. Простил за то, что я все-таки был ей нужен. Может, она приблизительно то же самое думала и обо мне, думала, что она мне нужна. И поэтому вспоминала обо мне. Но эта периодичность, этот невидимый, но существовавший в наших отношениях график, повинуясь которому она то появлялась, то исчезала, это было то, что внушало опасение в недолговечности и хрупкости наших отношений. Ее двойная жизнь, двойное имя наталкивали меня на мысль о том, что я чего-то недополучаю от нее и когда ее обнимаю, и когда целую, и когда с ней сплю. «Ну и что? – возражал я сам себе. – Девиз «Все или ничего» ни к чему хорошему не приведет. Те, кто хотят всего, обычно ничего не получают». Я ведь тоже не был готов к полному посвящению себя другому человеку, даже женщине.