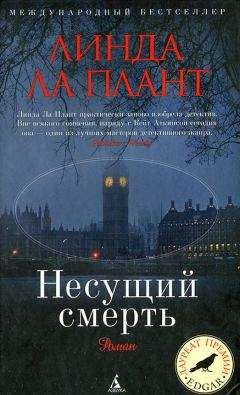Анна в ответ заметила, что никогда не видела, чтобы он пользовался своими записями.
— А… Так я о тебе пишу, а не о своих полицейских делах.
— Значит, ты хочешь сказать, что напоминаешь сам себе, нравлюсь я тебе или нет?
Он опять рассмеялся и беззаботно махнул рукой:
— День твоего рождения, например. Не бери в голову. Ну, шучу, шучу, и потом, ты-то все время заглядываешь в свою записную книжку, чаще, чем другие, я заметил!
Так и было, этому она научилась у отца. Он не уставал повторять, что нужно все записывать, потому что память — штука ненадежная. Если в зале суда вдруг понадобится припомнить весь инцидент в подробностях, записная книжка — лучшее средство для страховки.
Записную книжку Ленгтона туго опоясывала красная эластичная лента. Книжка слегка изогнулась, как будто приняла форму его грудной клетки. Анна сняла ленту, намотала ее на ладонь и открыла книжку. Мелкие четкие буквы его почерка испещряли каждую страницу. Книжка была заполнена почти на две трети, потом записи резко обрывались. Тонкие страницы склеивались между собой, несколько из них ей пришлось даже разъединять, и она подумала, что эти записи еще никто не читал. Возможно, Льюис просто не догадался это сделать: если записная книжка была предметом постоянных шуток, он мог подумать, что она не представляет никакой ценности.
Мелкий почерк было не так уж легко разобрать, Анна начала с первой страницы.
Вызов на жуткое убийство совсем молоденькой девушки по имени Карли Энн Норт поступил в девять часов утра. Тело нашли на пустыре за станцией метро «Кинг-Кросс». Норт было всего шестнадцать лет, но она уже привлекалась за проституцию и побывала в учреждении для малолетних преступников. Семья у нее была неблагополучная — и мать, и отец сидели на героине. Девушку убили ножом; убийца пытался отрезать ей голову и кисти рук тоже хотел обрубить, чтобы нельзя было снять отпечатки пальцев. Его спугнул офицер полиции, заметивший возле пустыря троих подозрительных мужчин. Он сумел задержать убийцу, но двое других, очевидно стоявших на стреме, дали деру и оставили своего приятеля один на один разбираться с полицейским. Убийца оказался нелегальным иммигрантом. По приговору суда после отбытия срока за изнасилование он подлежал высылке из страны. Ленгтон подчеркнул имя этого двадцатипятилетнего мужчины: Идрис Красиник.
Прочитав все это, Анна отложила записную книжку и раскрыла папку. За Красиником тащился длинный хвост всяких обвинений, от хранения марихуаны до нападений; уже в восемнадцать лет он был приговорен к общественным работам. Последний раз он попался на ограблении, и судья постановил, что после отбытия наказания он должен быть депортирован, однако прошло уже восемь месяцев с момента его освобождения, а он и не думал никуда уезжать — и вот убил Карли Энн Норт.
Анна вздохнула. Просто невероятно, особенно в свете дела Артура Мерфи. Как мог этот человек остаться в стране, ведь было же решение судьи о депортации!
Все тем же аккуратным почерком Ленгтон написал и несколько личных заметок: о том, что Баролли набрал слишком большой вес; о том, что Льюис стал хуже работать, потому что его жена беременна во второй раз, а из-за маленького ребенка он сильно устает и не раз опаздывал на работу.
Анна откинулась на спинку стула. Она подумала, сколько же тогда он мог написать о ней, но просматривать записи дальше было уже некогда. На работе надо появиться вовремя!
Дню, казалось, не будет конца. Мерфи доставили в суд магистрата. Как следовало ожидать, под залог его не освободили и перевели в тюрьму Уондзуорт, где он должен был дожидаться суда.
Анна успела вернуться домой, чтобы переодеться. Но перед поездкой в Глиб-хаус, взяв ключи от квартиры Ленгтона, она поехала туда.
На коврике у входной двери скопилась внушительная кипа почты, в основном рекламных листовок. Анна положила почту на стол в гостиной, чтобы разобрать и выкинуть ненужное. На столе уже лежала одна пачка. В квартире было чисто, и Анна подумала, не появлялась ли здесь бывшая жена Ленгтона. Она часто у него останавливалась вместе с Китти. Если это было так и в этот раз, то она не стала утруждать себя стиркой грязного белья. Анна запихнула его в сумку, чтобы постирать дома, и перешла в спальню.
Постель была застлана, и комната выглядела относительно опрятно. На прикроватной тумбочке стояла одна-единственная фотография — Китти, радостно улыбаясь, сидела на пони. Анна проверила, нет ли на тумбочке неоплаченных счетов, но там лежало лишь несколько купюр по десять и двадцать фунтов и какая-то мелочь. Она открыла шкаф, чтобы взять свежую пижаму, и увидела альбом с фотографиями. Ей было неловко его рассматривать, но искушение победило. Это были снимки со свадьбы с его первой женой. Она была, как Анне и говорили, настоящей красавицей, и на фотографии оба выглядели очень счастливыми и влюбленными. В конце альбома лежала карточка с ее похорон.
Анна положила альбом на место и, закрывая шкаф, заметила, что из другого ящика торчит уголок газеты. Она выдвинула ящик. Он был доверху набит сколотыми вместе вырезками из газет. Анна посмотрела на часы и решила, что уже пора выезжать, а не то она приедет к Ленгтону позже обычного. Она собрала все вырезки и положила к себе в портфель.
Радостный Ленгтон встретил ее, сидя в инвалидной коляске:
— А я думал, ты уже не приедешь.
— Извини. Я была у тебя, взяла свежую пижаму.
— Почта есть?
— Да, я привезла. Где тут можно посидеть?
— Я вот уже сижу, — рассмеялся он.
Ленгтон развернулся на месте и поехал в комнату отдыха, на ходу распахивая двустворчатые двери. Анна печально улыбнулась: даже сидя в инвалидной коляске, он не думал, что она идет за ним следом и что двери надо бы попридержать.
— Как видишь, жизнь здесь кипит, — произнес он, указывая на пустую комнату.
— Вот и хорошо, что здесь никого нет.
— Все смотрят какую-то муть по телевизору или сидят в баре. Может, хочешь выпить?
— Нет, спасибо. Ты ел?
— По-моему, давали рыбу, но, вообще-то, бог его знает, жесткое что-то, хоть вместо ракетки в настольный теннис играй.
Анна расположилась в уютном кресле и поставила на стол сумки. Ленгтон развернул свою коляску и сел напротив, она вынула почту, он быстро просмотрел ее и пробурчал, что все — фигня.
— Там еще куча такой же фигни, — сказала Анна. — По-моему, к тебе приходила бывшая жена и оставила все на столе. Счета пришли, нужно заплатить.
— Да-да, я посмотрю.
— У тебя чековая книжка с собой?
— С собой, и кредитная карта тоже, так что никаких проблем.
Она выложила из сумки чистую одежду. Он сидел, ерзая, в своем кресле-коляске.
— Ты неплохо выглядишь, — сказала она. Это была неправда. Он давно не брился, и от него пахло спиртным. — В баре был, да?
— Был, все равно здесь больше нечего делать, и даже не спрашивай, о чем тут говорят, — одни чокнутые кругом. Ни с одним нормально не пообщаешься!
— Ты, наверное, преувеличиваешь.
Он вдруг притих:
— Нет. Ничего… Это так, для поддержания разговора.
Она подалась вперед:
— Как твои процедуры?
Он наклонил голову:
— Ходить не могу, все болит, а эти гады не дают мне больше болеутоляющих. Только по счету, как ребенку десятилетнему!
— Так это специально делается, ты что, хочешь подсесть на лекарства?
— Ты-то что в этом понимаешь?
— Ну вот, тащилась, тащилась я сюда, а ты даже не можешь вежливо ответить.
— Ненавижу это идиотское кресло!
— А мне кажется, ты очень ловко с ним управляешься.
Он пожал плечами:
— Может, я теперь до смерти в нем буду сидеть.
— Нет, не будешь.
— Я его ненавижу, ненавижу свою зависимость, понимаешь ты или нет? Я даже по-маленькому ходить не могу — сваливаюсь.
— Ну, тебе же говорили, что это будет долго.
— Знаешь что? Ты разговариваешь со мной, как будто я дебил, да еще и неходячий к тому же!
— Между прочим, перенести опасную для жизни операцию, а потом…
— Я лучше тебя знаю, что со мной сделали. Иногда я жалею, что выкарабкался.
— А я вот не жалею.
— Правда? — Он склонил голову набок. — Что, правда желаешь нянчиться с калекой?
Она глубоко вздохнула:
— Хочешь, скажу прямо: сейчас ты не в лучшем виде, но…
Он не дослушал:
— Я тут подумал и хочу тебе сказать, что обратно в твою квартиру не вернусь. По-моему, будет лучше, если мы распрощаемся здесь.
— В каком это смысле распрощаемся?
— В прямом. Я о нас с тобой говорю, Анна. Не навещай меня больше. Поняла? Ни ты, ни я такого не ожидали, давай трезво на все это смотреть.
— Ты, что ли…
— Что?
— Трезво на все это смотришь?
— Вроде да.
— Тогда почему ты не думаешь о моих чувствах?
— Как раз о них-то я и думаю!