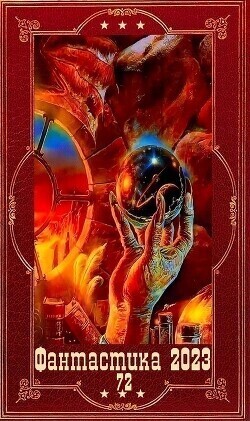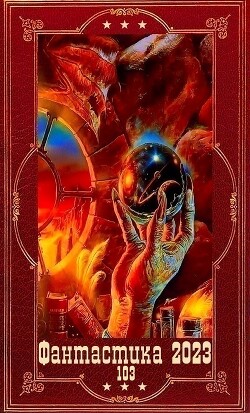А завтра или послезавтра он планировал сказать Ким, что получил известие от их племянника Миня – через семью вьетнамцев, которые держали какой-то ресторан в Сингапуре, давних эмигрантов, которые создали всемирную сеть, чтобы налаживать связи среди рассеянных по миру кланов. Минь выжил – кто знает, через какие невзгоды пришлось ему пройти? – и осел в окрестностях Бостона, в штате Массачусетс. В Техасе Минь обнаружил каких-то родственников, которые рыбачили в Мексиканском заливе, и этих родственников можно будет убедить помочь их двоюродному брату Хао и его жене добраться до Америки. Вот опять – удача. Он выбрал правильную сторону. Жизнь удалась!
Жена зажгла газ, и на плите затрясся чайник. Он этого не заметил. Он-то думал, что она всё ещё стоит у него за спиной и разглядывает фото в газете.
Она принесла ему чайник.
– Что там про него пишут?
– У него большие проблемы.
– Можешь ли ты что-нибудь с этим поделать?
– Нет. Я знал его, вот и всё.
* * *
8.01.83
Дорогой Эдуардо Агинальдо!
Возможно, ты уже получил от меня письмо. Но предположим, что оно так и не дошло.
Моё имя Уильям Бене. А зовут меня «Шкип». Конкретно ты называл меня именно Шкипом. Не припоминаешь ли ты меня часом? Если коротко, я больше не тот человек, которым был тогда, и на этом лучше поставить точку. Но всё же – помнишь ли ты меня?
Я довольно долго живу в городе Себу. Вернее, жил. Не был там вот уже года два. Там меня знают как «Уильяма Бене, того парня из Канады».
В Себу у меня семья: женщина жена и трое детей. В законный брак мы не вступали. Загляни к ним как-нибудь, ладно? Жену зовут Кора Ын. Её двоюродный брат владеет магазином «Чудесная лавка Ына» рядом с портовыми складами. Он-то и сможет её для тебя разыскать. Помнится, я имел в собственности два здания по соседству. Какие именно, тебе скажет Кора. В наличности она смыслит больше, чем в операциях с недвижимостью, так что, возможно, ты окажешь мне любезность, проведёшь за неё продажу и проследишь, чтобы она получила деньги.
Знаю, Эдди, много воды утекло. Знаю, что навязываюсь, но не представляю, кого бы ещё о таком попросить. Все мои знакомые – такие же жулики, как и я.
Если это одно из двух полученных тобой писем, то извини меня за то, что связываюсь с тобой дважды, однако я не могу сказать с уверенностью, какое из них до тебя дойдёт. Скажу тебе так: для меня не составит труда написать одним письмом больше. Я убиваю здесь время тем, что пишу письма, не зная, по какому адресу их послать. Условия тут приемлемые: моюсь из общественного ведра, питаюсь рисом с кусочками рыбы без червей, да и вода вполне приятная на вкус. Не то что в японском лагере для военнопленных – ну том самом, в Бирме. Помнишь нашего полковника? По сравнению с его рассказами о «Сороковом километре» это место – натуральный вечер в «Поло-клубе».
Если случится тебе встретить кого-либо из нашей тогдашней компашки, то скажи ему, что полковник не умер. Тело его мертво, но он продолжает жить во мне. Что же до типов людей, которые утверждают, будто он не умер и в телесном смысле, будто он по сей день бегает по Юго-Восточной Азии с кинжалом в зубах и размахивает окровавленным кортиком или чем-то в этом роде, – они ошибаются. Он совершенно точно скончался. Уж поверь мне на слово.
Обвинения против меня останутся в силе. Повесят ли меня или просто сгноят в тюрьме, мне ещё довольно долго не гонять свободно по Юго-Восточной Азии. Так что позаботься о моей семье, а, старина?
Твой старый приятель
Шкип
(Уильям Френч Бене)
Ну надо же, что он вспомнил – «Поло-клуб»! Письмо пришло вместе с пачкой, которую Эдди взял с собою в клуб, чтобы просмотреть за обедом, – аэрограмма, написанная очень мелким почерком и со штампом Куала-Лумпура. Обвинения? Повесят? За что? Эдди ничего об этом не слышал. В редакции «Манила таймс» у него работал друг, который, возможно, мог обо всём этом справиться. Жив ли полковник? Он никогда не слышал об обратном, ни слова о кончине Фрэнсиса Ксавьера Сэндса до него не доходило. Он не пересекался ни с кем из «тогдашней компашки», но наверняка знал бы, что полковник мёртв, если бы тот и вправду умер.
Сколь часто думал он о Шкипе Сэндсе, столь редко предпринимал что-либо по этому поводу. Не сделал ни единой попытки его разыскать. Образ Шкипа будил в памяти убийство священника на реке Пуланги в 1965 году, что, безусловно, стало худшим поступком за всю жизнь Эдди, и ни обстоятельства, ни война, ни чувство долга, ни добрые намерения никакой роли тут уже не играли.
Эдди оставил свой столик под навесом возле бассейна и направился через ресторан к дорожкам для боулинга. Служащий уже знал размер его ноги, так что спрашивать не было нужды. На центральной дорожке гоняла кегли пара детей, не очень-то ловко справляясь с этими шариками в половину меньше стандартных шаров, к тому же без отверстий для пальцев, так что приходилось запускать их всей ладонью, а кроме того, ещё и примериться было трудно, отчего шары почти никогда не задевали цель. После каждого броска из темноты над сбитыми кеглями спускался мальчик, ловил их и снова устанавливал на дорожке. Подростком Эдди швырял шар от всей души и посылал кегли в полёт в надежде попасть какому-нибудь из таких мальчиков по башке, но они знали, чего от него можно ожидать, и старались держаться подальше.
Эдди набрал девяносто с чем-то очков (не так уж плохо с такими-то неудобными шариками), хлебнул «Севен-апа» с гренадином – как в детстве. Шесть недель назад, после бурной новогодней ночи, он зарёкся употреблять спиртное.
Поднялся по лестнице, прошёл через вестибюль к домофону, открыл для Эрнесто кабину водителя и остановился в ожидании. Игровая площадка и подъездная аллея «Поло-клуба» не менялись десятилетиями; за пределами территории, на этом участке Форбс-парка, всё было по-прежнему хорошо, но вне Форбс-парка поджидал хаос. Санитарный кордон ухоженных газонов и фешенебельных особняков со всех сторон охватывал удушливый город. У Эдди были планы переехать. Он был богат, он мог уехать, куда хотел. Неясно было только, куда именно.
Имогены не было дома. Детей тоже – уроки уже, по идее, закончились, но эти сорванцы, должно быть, отправились к кому-нибудь в гости или шатались где-нибудь в поисках неприятностей.
В кабинете наверху он сел за письменный стол, развернув стул к окну и взял обеими руками чашку кофе. Кофе он не любил. Просто пил, да и всё тут.
– Вам письмо.
– Что?
Карлос, мальчик на побегушках. Бывшая в своё время красавицей Имогена предпочитала, чтобы он говорил «слуга».
Карлос положил на стол конверт.
– Это от мистера Кингстона. Его водитель привёз в машине.
Кингстон – американец – жил неподалёку. Письмо, как он увидел, пришло из тюрьмы Пуду и было адресовано Эдди для передачи через канадского консула в Маниле. Кингстон прикрепил к нему записку: «Это мне передал Джон Лизе из посольства Канады. Я так понял, это тебе. Хэнк». Связь, как предположил Эдди, заключалась в том, что Кингстон много работал с канадской компанией «Империал-ойл», а Сэндс выдавал себя за канадца.
18.12.82
Уважаемый Эдуардо Агинальдо!
Мистер Агинальдо, меня зовут Уильям Бене. В настоящее время я сижу в тюрьме в Куала-Лумпуре, ожидая приговора по обвинению в незаконном распространении оружия. Мои поверенные говорят, что меня повесят.
Мистер Агинальдо, я умираю – и я этому рад. Представляю, как вы стоите у большого окна многоэтажки, возвышающейся над пеленой смога, смотрите вниз на Манилу, проплывающую за окном как сон в дыму и копоти; вы, несомненно, заматерели, обзавелись вторым подбородком, отрастили брюшко, стали человеком, которого я не знаю и который, возможно, не вспомнит, кто я такой.
Но я пишу вам, потому что вы единственный, кто может передать для меня послание тому Эдди Агинальдо, что жил восемнадцать лет назад, молодому майору, который боролся с хуками, ухлёстывал за богатенькими юными метисками, играл Генри Хиггинса в «Моей прекрасной леди» – помните? – и был главной звездой этого спектакля. Кому-то ещё кроме него мне и сказать-то нечего. Не о чем мне сообщать живущим в нынешнюю эпоху, наследникам нашей лжи. Так вот, я пишу Эдди Агинальдо. Добросердечному Эдди Агинальдо, который не пожалел времени и отважился послать мне предупреждение об опасности, в которую я уже нырнул с головой в Каокуене во Вьетнаме, в эту растворяющую душу кислоту, в которой утопили сами себя ребята вроде меня, пока учтиво прикрывали рты носовыми платками и жаловались на ДДТ и гербициды, в то время как наши души вываривались кое в чём гораздо более ядовитом, чем яд.