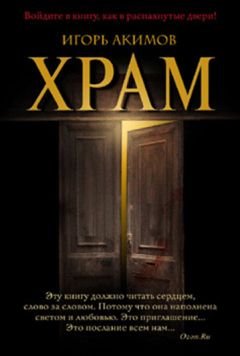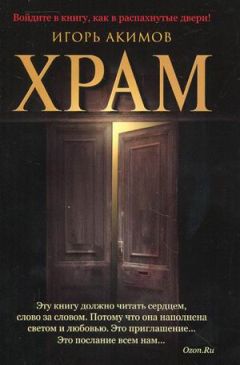Он никогда не был туристом, никогда не был любопытен. Его интересовала только жизнь, ее тайна. Процесс одухотворения неживой материи. Узнать эту тайну — а ведь он когда-то был известным на весь мир авторитетом в биологии — Н не надеялся, даже не пытался. Н восхищался Богом больше всего за то, что Он так умеет. Живопись этого не умела. Она могла остановить человека, достать из памяти его прошлое, напомнить о ценностях, забытых им, потому что они мешали той бессмысленной гонке, в которую он когда-то в юности включился. Самое большее, что могла живопись, — одарить толикой энергии и тем дать шанс изменить жизнь. Но Н никогда не оглядывался (так же, как никогда не пытался заглянуть вперед), никогда не сожалел о нереализованных — куда более ярких и счастливых! — вариантах своей жизни, — не видел в этом смысла. Энергии он имел предостаточно, и тратил ее так, как хотел. Поэтому не скучал. Поэтому ничего другого не хотел вовсе. Вот почему живопись — за редчайшим исключением — не проникала в него глубже глаз.
Но возле одного изображения он задержался. Оно было исполнено не маслом, как другие картины; это была фреска. Луна вытравила все колеры, оставила лишь черно-белую гамму, но выразительность линии и игра масс от этого только приобрели. Сюжет предельно простой: ангел протягивает чашу, а человек ее принимает. Ангел как ангел — два крыла, хитон; вот только все это — как бы обугленное: и крылья, и хитон, и лицо, и руки. Но тип лица славянский, и ниспадающие на плечи волосы — прямые. Человек — напротив — весь в белом, даже волосы белые — седые. Он стоит в полупоклоне, прижимая черную чашу к груди, но линия спины напряжена, как натянутый лук. Видно, как он преодолевает внутреннее сопротивление, отторжение от чаши. Не хочет, но берет — судьба…
Нужно было найти укромное место и какие-нибудь доски, чтобы сделать костерок и ложе. Н пошел дальше. Но фреска не отпускала его. Думать он мог только о ней. Спиной он ощущал нечто, рождавшее потребность оглянуться. Как будто там — пока он этого не видит — что-то происходит. Надо обернуться резко, чтобы застать врасплох… Ему стало смешно: какие-то детские страхи и фантазии. Он все же повернулся — неторопливо, нарочито медленно. Естественно, на фреске ничто не изменилось. Но отсюда, с отдаления, он понял замысел художника. Черное и белое были неразрывным единством. Черное перетекало в белое, а белое — в черное; в черном зарождалось белое, в белом — черное. Так ведь это монада! — символ бессмертия, символ вечного возрождения энергии, игрушка-перевертыш: желаете? — получите объяснение смысла жизни; испытываете ужас перед перспективой могилы? — вот вам снадобье, гарантирующее душевный покой.
Если бы у Н были силы — он бы засмеялся, но улыбнуться он смог, и тут же забыл о фреске: банальности — по причине их пустоты — имеют счастливую способность исчезать из нашей памяти сразу и без следа.
На росписи он больше не глядел.
Он двинулся по периметру храма, заглядывая в притворы. И вдруг увидал огонек. Это была лампадка. Она еле теплилась перед иконой Богоматери, распространяя чад горелого масла. Здесь же лежал букетик бессмертника, несколько огарков хозяйственных свечей и толстая пластина самодельного войлока.
Н осмотрелся.
Не дует. И снегу не намело: над головой шатром парил каменный свод. Н был велик телом и не представлял, как сможет уместиться на этом войлоке, но когда положил под голову вещмешок — у него получилось. Он накрылся пледом и долго лежал, глядя на огонек лампадки. Просто лежал и глядел. Потом повернулся на другой бок — и встретился взглядом с черным ангелом. Ангел был далеко; в колоннаде, разделявшей их, клубился мрак, но фрагмент фрески с ангелом был виден отчетливо. Впрочем, Н смотрел не на ангела, а только в его глаза.
Ангел вышел из стены, прошел через колоннаду и присел рядом с Н.
— Вот ты и пришел, — сказал ангел.
Теперь, когда его лик был рядом, Н вспомнил наконец, где видел его: в ту ночь, над городом, в морге. Точно — это был он. Такой же прозрачный. Именно это занимало мое внимание, хотя я припоминаю, что уже и тогда он был черен, вернее — обуглен; как мне подумалось — какой-то страстью.
Н чувствовал необычайную легкость. Вот никогда бы не поверил, что умирать так легко. Почему-то я всегда полагал, что душа не отлетает на исходе жизни как перышко, как во сне, а вырывается с болью для тела, рвет по живому, — ведь навсегда разрывается нераздельное единство…
— Стоило ли вести меня в такую даль? — сказал Н. — Чем смерть в морге хуже смерти в храме?
— Не обольщайся, — сказал ангел. — Твой час еще не настал.
— Надо так понимать, что тебе известна моя судьба?
— Конечно. Я послал тебя. Я ждал тебя здесь. И ты пришел, когда тебе надлежало.
Н подумал.
— Я должен что-то исполнить?
— Храму настал час воскреснуть, и для этой миссии Господь выбрал тебя.
Несмотря на прозрачность, лик ангела был виден ясно. Что удивительно — он был неподвижен, и… как бы поточнее передать впечатление… вот! — он был лишен индивидуальности. Как будто на нем была маска. Но если рассудить — зачем ему для встречи со мной прятаться под маской? Значит, они таковы всегда? Впрочем, чему я удивляюсь, — ведь информация не имеет лица… Как жаль, подумал Н, что ангел существует всего лишь в моем воображении. Голограмма, посланная мне из иного мира… Опоздали, ребята, опоздали. Мои заботы позади…
Хотелось закрыть глаза и отключить мозг, но глаза и так были залеплены неподъемными веками, а тяжелый взгляд ангела удерживал сознание. Чего он хочет от меня?
— Я не управлюсь, — сказал Н. — Здесь столько работы…
— Не сомневайся. Это бесплодно и недостойно.
Если бы Н мог — он бы улыбнулся. О каком достоинстве говорит этот ангел? Разве можно взять что-нибудь рукой, которая уже наполнена? Смирение наполнило мою душу до последней клеточки. В ней не осталось места даже для любви. А такие фантомы, как достоинство… я уже и не помню, когда они покинули меня.
— Я постараюсь не разочаровать Господа, — сказал Н только потому, что ангел ждал от него этих слов. Внутреннее отторжение нарастало, и хотелось только одного: забыться.
— Под тобой тайник, — сказал ангел. Его голос стал жестче. Ну конечно — ведь он в моих мозгах, а потому и читает в моей душе, как по книге… — Возьмешь из него, сколько потребуется для дела. Потом вернешь.
— И вернуть нужно больше, чем взял?
— Ты понятлив.
— Это закон бизнеса.
— Помни главное: ничего не бойся. Пока ты исполняешь волю Господа — над тобой его десница.
— И ты будешь моим заступником?
— У каждого своя работа.
Прозрачность ангела стала нарушаться. Она не замутилась и не поблекла, но по нему словно пошла рябь. Очевидно, еще несколько мгновений — и он исчезнет. Оставалось спросить самое главное, но Н не мог выдавить из себя эти слова.
— Я знаю, что ты хочешь спросить, — сказал ангел. — Грех твой велик, но Господь давно простил тебя.
— Этот храм — эта работа — будет моим искуплением?
Ангел помедлил с ответом.
— Я думал… ты знаешь, что искупления нет.
Еще с вечера что-то назревало в природе: все валилось из рук, пес забился в будку, там повизгивал и даже не выбрался, чтобы взять еду; беспокоились куры, корова стонала и не находила себе места, а ведь она на сносях, и Мария боялась как бы она не повредила плод. Мария как могла успокаивала корову, гладила ее, шептала в ухо ласковые слова; наконец уложила на солому, села рядом, обняла ее за шею — да так и задремала. Очнулась около полуночи — ее разбудил колокол. Звук был неторопливый, нарастающий; он приплывал словно из бесконечного далека, хотя до храма было рукой подать — метров двести, не больше. Звук жил долго — таял, таял, — и только когда совсем иссякал — возникал новый звук. Увидав, что Мария уже не спит, корова захотела встать, но терпеливо ждала, пока первой встанет хозяйка.
А потом пришла буря.
В невероятном лунном сиянии она надвигалась из степи грохочущей черной стеной, полыхая изнутри, как тлеющие уголья, непрерывными молниями. Это был конец света. Мария стояла возле окна, вцепившись в подоконник, забыв от ужаса, что нужно молиться. Ее хата была крайней в селе — значит, ей первой погибать. Но буря, напоровшись на храм, застряла на нем, и билась, как раненое животное. Потом все же сумела освободиться — и ушла наискосок в степь, оставив луне и гладкую степь, и храм на холме. И тишину: когда раскалывающие небо удары и треск разрываемого воздуха затихли вдали, Мария осознала, что и колокол умолк. Слава Богу.
Утром, управившись по хозяйству, Мария пошла в храм — нужно было проверить, не погасила ли буря лампадку, и поговорить с Богородицей: в последнее время это вошло у нее в привычку. Солнце заливало землю; земля сияла чистотой, как в первый день творения. Она была прекрасна.